 Я очень дорожу своей дружбой с хорошими, умными людьми. С людьми, которые несут в этот мир свет и добро.
Я очень дорожу своей дружбой с хорошими, умными людьми. С людьми, которые несут в этот мир свет и добро.
С теми, кто помнит, но умеет простить – и жить не своим горем, а будущим своих детей и внуков. Кто не забыл, но нашел в себе силы оставить в стороне самые горькие, по-настоящему смертельные обиды.
Почему Давид Каплан из Ковно (Каунаса), подростком прошедший через все ужасы гетто, концлагерей, участник Марша Смерти (когда из более, чем 20 тысяч узников Дахау осталось в живых около 800) назвал свою книжку “Я им прощаю” (I Forgive Them)?
Я позволил себе с разрешения автора перевести на русский язык его книжку.
Давид Каплан
“Я им прощаю”
Я посвящаю эти воспоминания:
моей жене, с которой я живу 60 лет, той, которая является моим наставником, моим другом, моим партнером и той, что сделала мою жизнь прекрасной,
моим четырем детям: Джейкобу, Карлосу, Лили и Эстер. Я беру их с собой в свое путешествие.
И моим шести внукам – Ошрат, Амиру, Адаму, Стейси, Джонатану и Ализе, которые, как я надеюсь, поделятся моей историей со следующим поколением.
Предисловие
На дворе 2007, мне 78 лет, и настало время рассказать мою историю. Не только потому, что сам я становлюсь старше, но потому, что те из нас, кто пережил Вторую Мировую войну становятся старше.
Моя история – о том, как еврей из Литвы выжил в концентрационных лагерях, выжил в печально известном “Марше смерти”. В начале “Марша смерти” было 22 тысячи пленников, а через десять дней, когда на помощь подоспела американская армия, их осталось лишь 800.
Когда-то я был знаком или знал, где находятся пятьдесят – здесь, в Эль Пасо, Техасе, – те, что также пережили концлагеря, но теперь, через 60 с лишним лет лишь пятеро или шестеро остаются в живых.
Есть и другие причины, по которым я верю в то, что следует поведать людям мою историю, и я храню надежду на то, что мои внуки, и внуки моих внуков продолжат передавать эту историю.
Одна из причин – это свобода вероисповедания, которая является жизненно важной здесь, в Соединенных Штатах. Почти правдой будет сказать, что антисемитизм начался из-за конфликтов в религиозных отправлениях. В Литве, по закону, следовало снимать головной убор, проходя мимо церкви. Евреи в Вильнюсе часто жили недалеко от церквей. Они должны были проходить мимо церквей, когда шли в деловую часть города. Поскольку обнажать голову было против еврейской религии, они шли в обход вокруг церквей на работу и возвращались домой тем же путем, чтобы головы их оставались покрытыми. Это простое разногласие в конце концов становилось одной из причин обособления еврейских общин, что создавало еще больше трений. Конечно, это лишь часть проблемы. Я расскажу об этом дальше в своей книге.
Другая причина изложить мою историю – желание защитить наши будущие поколения. В последнее время известные люди, включая президента Ирана, заявляют, что никакого “Холокоста” и не было. В учебниках истории, где когда-то про это рассказывалось на десяти страницах, позже была отведена лишь одна, затем всего один абзац, а в конце концов – только строчка. Одна строчка о том, сколько людей стало жертвами времен Второй Мировой – это совсем не достаточно.
Главная же причина рассказать свою историю – это напомнить вам, что дьявол в мире все же существует, что это следует признать и понять, что люди могут быть безжалостными и жестокими.
Я – один из счастливчиков, которому удалось простить людям то, что они совершили со мной и моей семьей. Я не должен был жить так, чтобы мой прошлый опыт оказал влияние на мое отношение к жизни. У меня прекрасные жена и семья, я финансово успешен, а мое здоровье пока в порядке.
Я надеюсь, что мое отношение – простить – окажет влияние на других людей.
Давид Каплан, декабрь 2007.
*****
В 1940 году, перед тем, как Соединенные Штаты вступили во Вторую Мировую войну, Дэвид Каплан жил в Литве со своими родителями, где он был рожден евреем. В то время Литва была оккупирована (или присоединена) Советским Союзом. Дэвиду было 11 лет.
На следующий год, в 1941, началась война между Германией и Россией, и в Литву вторглись немцы. Некоторые из литовцев стали интенсивно помогать оккупантам в уничтожении “русских”, а затем они приступили к убийствам евреев. За первые несколько дней “конфликта” литовцы, симпатизировавшие нацистам, истребили порядка 10 000 евреев, которые фактически были их соотечественниками, жили с ними бок о бок. Обычно слово “конфликт” обозначает бой, битву, сражение, однако в этом случае ни о каких военных действиях речи не шло. Евреи погибали лишь потому, что оставались чужими, они даже не боролись за то, чтобы остаться в живых, не сопротивлялись, поскольку абсолютно не были готовы к “конфликту”.
История Дэвида начинается таким образом в 1941 году в Литве, к тому времени ему, как не трудно подсчитать, было уже 12.
Дэвид Смит-Сото, профессор факультета журналистики Техасского университета в Эль-Пасо записал во время многочисленных интервью свои беседы с Дэвидом Капланом и с помощью своих помощников переложил эти записи на бумагу.
Издатели из организации Book Publishers of El Paso помогли организовать выход в свет этой книги.
Book Publishers of El Paso
Декабрь 2007 года.
*****
В своей попытке перевести мемуары Дэвида Каплана я постараюсь придать, насколько возможно, этим интервью форму монолога.
У русскоязычных читателей я заранее прошу прощения за постоянные ссылки на известные всем факты, такие, например, как “смешанные” названия городов. Не надо забывать, что Дэвид Каплан фактически ребенком попал в жуткие условия, в которых учеба была практически не возможна, поэтому познания его в истории или географии могут быть не такими полными, как у тех, кто воспитывался в советских школах.
Нам же важны именно его воспоминания, как чудом выжившего участника трагедии всемирного еврейства.
Владимир Каневский.
*****
Глава первая. По материалам интервью от 16 марта 2004 года.
Родился я в Каунасе, который, по российской традиции, назывался еще “Ковно”. Это примерно в сорока километрах к югу от Вильнюса. Я думаю, Вильнюс был столицей а затем его отняли у Литвы, и он стал частью Польши.
Это был крупный центр еврейской культуры, в том числе и религиозный, но я ничего особенного не знаю о Вильнюсе, несмотря на то, что моя мама и ее родители были оттуда. Они много говорили о Вильнюсе, но я родился именно в Каунасе, а Вильнюс считался “Иерусалимом” восточного мира.
Родители рассказывали, что там была еврейская “секция”, и именно там многие молодые люди из еврейских семей были вовлечены в социалистическое движение. Молодых евреев привлекали идеи социализма, Бунд. Литовцы относились к евреям не лучшим образом, порой наблюдалась и дискриминация, и, конечно, были проявления антисемитизма. В Вильнюсе это было настоящей проблемой. Понимаете, были такие райoны, где стояли церкви. Жившие поблизости евреи постоянно, чтобы попасть в деловую часть города, постоянно ходили по этим христианским райoнам, где было полно церквей.
По закону, они должны были снимать, например, головные уборы, что противоречило еврейским правилам. Религиозные евреи не хотели снимать свои шапки или ермолки. Они предпочитали идти на работу и обратно домой в обход, минуя путь через улицы, на которых стояли церкви, ну а зимой это было немного сложнее – просто из-за мороза.
Сотни лет, сколько жили в Европе евреи, здесь наблюдался антисемитизм, а люди испытывали антисемитские чувства.
Да, конечно, потому что католики не понимали еврейский народ, они, например, обвиняли евреев в гибели Иисуса Христа. Евреи так и жили под давлением антисемитизма. Люди ведь верили во все, что говорили им их священники на воскресной мессе. Жизнь должна была быть прекрасной, но этому постоянно что-то мешало.
Итак, евреи предпочитали обходить церкви вместо того, чтобы идти напрямую и снимать шляпы.
Другим это не нравилось, и возникали проблемы, напряженные отношения между общинами. Из-за вот таких обстоятельств, чтобы избежать насмешек и издевательств, евреи и создавали свои обособленные райoны. Но отделяя себя от “нееврейских” райoнов и общин, кроме того, некоторые предпочитали говорить на идиш вместо литовского.
Организовывались свои собственные общины. Мясник был еврей, зленщик, плотник – тоже были евреи. Из-за антисемитизма евреи избрали себе обособленную жизнь среди таких же, как они, то есть сами формировали гетто.
С самого раннего детства я сталкивался с антисемитизмом. Меня обзывали “грязным евреем” или “пархатым жидом” (“пархатый” – боьной паршой, грибковым заболеванием, вызывающим появление на коже сыпи и струпьев). Так что можете представить, как я себя должен был чувствовать.
Я так и жил, постоянно и непременно подвергаясь обидам.
Родился я 28 августа 1929 года. Я помню себя примерно с трехлетнего возраста. Мне поначалу было не просто. Помню, мне уже было три года, а я еще не мог разговаривать. Начал я говорить, когда мне исполнилось три с половиной, и помню, что меня обзывали “глупым”, потому что я не начал разговаривать раньше.
Мама часто посылала меня уже в этом возрасте за какими-нибудь покупками, например, за керосином. В те времена в семьях готовили на таких маленьких горелках, которые называются “примус”.
Никогда не слышали о таком?
Обычно примус заправляли керосином, накачивали, а затем поджигали и так готовили еду. Иногда пищу готовили на дровах. Я рано научился их разжигать. Тогда там, в Каунасе ведь не было газа.
Мои родители не были религиозны. И папа, и мама вступили в Бунд – еврейскую социалистическую партию, когда они были еще очень молодыми.
Бунд был международной социалистической организацией. Их лозунгом было (как и у коммунистов) “пролетарии всех стран, соединяйтесь”. Это было больше похоже на своеобразный социальный клуб для еврейской молодежи. Тогда не было никакого радио, телевидения и телефонов. Парни и девушки собирались вместе, разговаривали, общались, танцевали. Мой отец был очень хорошим танцором. Он даже давал уроки танца. Его имя было Израиль, и люди звали его (с говорком на идиш) “Шролке – Кан-кан”, потому что он взял приз за исполнение канкана, который тогда был очень популярным. Так его и дразнили. А потом моя мама влюбилась в него, как я думаю, из-за того, что у небо были необычные для еврея синие глаза. Глаза постоянно становились причиной его проблем. Женщины просто бегали за ним. Папа повстречал маму, когда ей было двадцать четыре, а ему, я думаю, двадцать два.
Мой отец был портным, и я, пожалуй, унаследовал способность шить от него. Мой дед умер перед рождением своего сына, когда бабушка была на четвертом месяце беременности. Мой дедушка утонул. Он работал грузчиком и кем-то вроде бурлака на судне, упал за борт и утонул, когда тянул какой-то корабль.
Его звали Израиль, и также назвали и моего отца. Согласно еврейской традиции (в некоторых общинах), ребенка следует называть именем умершего. В этом случае так и произошло. Мать моего отца вышла замуж за другого мужчину, и у них было еще две дочери.
Этих своих теток я не знал. Был просто слишком мал. Позже мне рассказали, что одна из них жила в Минске, в Белоруссии. Другая, которую звали Ханна, бежала, чтобы спастись, от немцев, но была схвачена. Я знаю, что немцы также убили и ее дочь. Они зачем-то вернулись в Литву, где мужа Ханны немедленно арестовали, а она и трое детей жили у нас. Мой отец по какой-то причине не хотел, чтобы мама дружила с его сестрой, но они все равно стали друзьями. Я знаю, что даже до этого мама пыталась втайне от отца помогать тетке Ханне деньгами.
Родители не спешили отдавать меня в школу, так что учиться я начал лишь с восьми лет, о чем до сих пор жалею.
Родители записали меня в еврейскую ортодоксальную школу Явне. И там я начал учить иврит. Туда же ходил и мой старший брат. У меня был старший брат, старшая сестра и младший брат.
Старший из нас тоже ходил в Явне, и там ему сказали, чтобы он меня привел. Мои родители никогда не ходили в школу, чтобы узнать, как у меня идут дела с учебой, как я справляюсь. А мне было довольно тяжко. Мне было восемь, а остальным детям в классе – по семь лет. Я был тогда растерян и, помню, никак не мог научиться читать. Кроме того, я привык находиться среди старших, и дети вокруг казались мне несмышлеными малышами.
Хорошо помню, что во время чтения все буквы “скакали” перед моими глазами, когда я пытался произнести текст вслух. Конечно, я не догадывался тогда, что существует такое понятие, как дислексия. Мне было стыдно, я считал себя глупым, и так же считали мои учителя, которые задавали мне хорошую трепку. Они думали, что это все происходит из-за того, что я не делаю уроков. Учитель даже послал моей маме письмо о том, что я не участвую в уроках, но это письм мне удалось перехватить, и я его выбросил.
Буквы тем временем продолжали прыгать у меня перед глазами, и я думал, что попал в настоящий ад.
Итак, мы жили в Ковно (или Каунасе). Потом я расскажу вам о Слободке – бедном еврейском местечке, которое при немцах превратили в гетто.
Сегодня в Эль-Пасо живет большая семья Шустер. Очень милые люди, кстати.
С тех пор я побывал в Литве. По-моему, это было в 1989 году. Я навестил Каунас и Вильнюс. Летал туда на самолете. Я поехал специально, чтобы показать моей жене, кем я был раньше.
Мы добирались на двух самолетах. Вначале прилетели в Москву, потом переехали в Ленинград (который теперь снова называется Санкт-Петербург), а потом летели на самолете в Вильнюс. Оттуда до Каунаса мы уже ехали на машине.
На самом деле поездка была очень тяжелой. С одной стороны, мне пришлось вспомнить все, через что мне пришлось пройти. С другой – я четко понял, что выжил, может быть, для того, чтобы иметь возможность рассказать все моей жене.
Она меня спрашивала: “ты помнишь эти улицы”? И я отвечал – “конечно, почему же нет”?
Я помнил все. Я показал ей, где мы жили – дом по адресу 44 улица Шауляй. Он по-прежнему стоял там, так что я постучал в дверь, и на стук вышла женщина, которая заговорила со мной по-литовски. Но я не мог говорить на литовском, поэтому спросил, не знает ли она польский или немецкий.
Оказалось, она говорит по-польски. Ее фамилия – Левинене, что на литовском значит, что она замужем. Все фамилии замужних женщин заканчиваются на “ене”. Так, фамилия моей мамы была Капланене.
Сестру мою называли Капланете,а меня – Капланас. Позже я сменил фамилию на Каплан.
Было довольно мило показать моей жене место, где я жил, и я вспомнил, как мы жили. Теперь все выглядело таким маленьким.
Я увидел улицу Шауляй, на которой я жил ребенком, и очень разнервничался. Это были непередаваемые, необъяснимые чувства.
Когда немцы пришли в Литву, литовские “патриоты” принялись убивать русских. Русские (имеются в виду, естественно, советские войска – В.К.) оккупировали Литву в 1940, а война между Германией и Россией началась в 1941.
Немцы вошли в Литву в 1941. Но еще до того, как они заняли Ковно, партизаны уже начали уничтожать евреев. Нам рассказывали, что в первые пару дней они расстреляли около десяти тысяч человек в Слободке. Слободка – это то место, где жили бедные, малоимущие евреи (Давид Каплан немного путает. Десять тысяч евреев действительно были расстреляны. Но произошло это в печально известном Девятом форте, где 28 октября 1941 года безжалостно расстреляли 10 тысяч невинных человек).
Ковно расположен между двумя реками – Неманом и Неросом. На других языках они могут называться по-другому, но я не знаю этих названий.
Там вот были такие райoны, где жили бедные евреи. Когда Литва принадлежала российской империи, всех евреев заставили покинуть Ковно и поселиться в таких местах, как Слободка. Только еврейская “элита” могла остаться (имеется в виду черта оседлости – В.К.).
Мы, правда, остались. Мы жили в Ковно рядом с железнодорожной станцией. Они называли ее “Кармелита”, потому что там была церковь Святых Кармелитов.
У моих родителей была лавка – швейная мастерская. Они продавали ткани и шили костюмы и пальто, которые часто продавали в кредит. У них хорошо шли дела, потому что они позволили себе построить четырехэтажный дом.
Лавка располагалась на нижнем этаже, мы жили на его нижней части, а верхние этажи сдавали. У нас даже были настоящие ванные комнаты с горячей водой, и центральное отопление на угле.
До 1936 года мы жили в доме номер один по проспекту Витаутаса, как и все (евреи). А вот с появлением швейной мастерской, переместились на ее заднюю часть, за магазином, который, конечно, располагался впереди. На этой улице было не так уж много евреев.
Так вот, когда немцы начали оккупацию Литвы, то прежде всего они стали отделять евреев от остального литовского населения. Они начали убивать людей прямо на улицах, причем – с помощью литовцев.
Когда немцы пришли, в газетах напечатели объявление о том, что евреи должны переехать в Слободку, которая позже превратилась в гетто. У нас было тридцать дней на переезд, а и наче нас бы убили, я думаю. Нам разрешили взять все наши пожитки, которые могли уместиться на запряженную лошадью телегу. Нас заставили поменять наш прекрасный каунасский дом на комнатку в Слободке. Нееврейскому населению этого местечка было указано переехать в наши дома в Ковно. Это был нечестный обмен. Некоторые жаловались на то, что в Слободке им мало места.
Немцы, которые находились у власти, говорили: “не волнуйтесь, места у вас будет полно”. Позже мы поняли, что они были правы.
Отца моего к тому времени уже не было с нами. Когда пришли русские, они национализировали все подряд. У нас была лавка, где мы продавали ткани. И тогда мой отец спрятал материал, чтобы не отдавать его им. И все равно, не знаю, как, но они нашли ткань, а потом пришли и арестовали его, и забрали все. Они назвали его спекулянтом, а потом приговорили по 107-й статье и отправили его в Сибирь, в тюрьму.
я никогда больше не видел его. Правда, уже после освобождения в Берлине я встретил литовцев, которые рассказали мне, что отец мой выжил.
Он не был уж слишком хорошим человеком, мой отец. Пил, унижал мою мать, бил детей и часто избивал мать на глазах у нас, а мы плакали, прячась за дверью. Мы ненавидели его.
Но время все прощает. Я после войны написал ему письмо. У меня был кузен, который выжил, как и я в Марше Смерти. Один из его друзей как раз приехал их Литвы. Он знал моего отца и сказал, что он жив и вернулся в Литву, в Вильнюс. Они оба рассказали мне об этом за обедом в ресторане, и я прямо там написал ему письмо.
Отец поначалу и не понял, кто из его сыновей выжил. Мне сказали, что он принял меня (точнее, мое письмо) за моего старшего брата, но это был я.
Я был третьим ребенком в семье. Я тогда послал ему письмо с фотографией. А потом он написал мне ответ и тоже прислал мне фото.
Так получается, что русские невольно спасли ему жизнь. Как говорит испанская пословица, “No hay mal que por bien no venga” (что по-русски означает “нет худа без добра”).
В гетто же у нас была одна комнатка на всю семью.
До этого, конечно, мы жили гораздо лучше. У родителей было всего три сына. Один из нас умер в 1937 году от сердечной недостаточности.
Мама всегда работала в лавке, где она продавала сшитую одежду, а мы жили, как я уже говорил, позади магазина. У нас было три спальни, кухня, и своя собственная настоящая ванна, что было тогда редкостью.
Когда литовцы принялись убивать евреев, еще до того, как начались бомбежки, я был так напуган.
Я же был всего-навсего маленьким мальчиком. Мне было двенадцать, и я сказал своей маме: “давай убежим отсйда”. Потому что тогда я видел множество людей, отправлявшихся с нашей станции по железной дороге в Россию.
Мама ответила мне: “нет, почему мы должны бежать? Немцы, – говорила она, – не так уж и плохи. Я помню, когда они шли по вильнюсским улицам во время Первой Мировой. Они были даже милые, а я говорю по-немецки, так что никаких проблем у нас не будет”.
А я просил: “мам, давай уедем, давай сбежим в Россию. Уедем отсюда. Они нас убьют”.
Мама настаивала на том, что немцев не стоит бояться. А потом начали падать бомбы. Потом к нам пришли литовские партизаны и забрали как-то моего старшего брата – чтобы отмывать от крови каунасские улицы. Ему тогда было шестнадцать. Ночью его привели обратно домой. И я знал, что у нас начались проблемы. Да и мама тогда сказала мне: “зря я тебя не слушала”. Так что тогда множество людей шли на станцию и уезжали в Россию. Некоторые никогда до нее так и не добрались, а другим повезло больше.
Моего брата постоянно уводили, а потом приводили обратно, но каждый раз, когда он возвращался, ейто было каким-то чудом. Они обзывали нас, унижали, и я думал, что в любой момент они могли нас убить.
Я сказал своей маме: “они заберут меня и убьют”, а мама ответила мне: “сыночек, не волнуйся. Если они возьмут тебя, я пойду с тобой”. Я тогда понял, что она готова за меня умереть. Она была замечательная. К тому времени ей было всего 43.
Не знаю, почему тогда нас не убили. Нам просто везло. Они как-то прошли мимо нашего дома. Видите ли, в этом райoне Каунаса, Кармелите, рядом с железной дорогой, жило не так уж много евреев, меньше, чем в других местах. Но все евреи, конечно, знали друг друга. Многих из них убили.
Литовцы никогда не относились к нам слишком хорошо. По правде говоря, в моем первом концлагере, который назывался Санзай, нас заставляли работать на Литву. Позже я расскажу об этом.
Это был такой специальный концлагерь, и я там работал. Это было недалеко от порта, где утонул мой дед. Там я увидел мальчика по имени Казук. Я сказал ему: “привет, Казук”, а он отвечает: “Каплан, тебя еще не убили”?
Это был сын наших соседей, он работал в лагере уборщиком. Очень милый парень, который был лучшим другом моего брата. Помните? У меня были брат и сестра.
Когда нас переселили в Слободку, с нами поначалу жили и брат, и сестра, и мать, и мой дед, который потом утонул. Переехали мы в августе 1941. Конечно, из дома мы забрали далеко не все.
А что касается лавки – то ее просто пришлось бросить, тем более, что после прихода русских она практически оставалась закрытой.
После ареста отца у нас все равно все забрали. Я лично был рад, что его увели. Это печально, конечно. Но я простил ему все и даже помогал выжить после войны. А русские забрали у нас все, что касалось магазина и мастерской.
Когда они пришли, нам пришлось оставить все дела. Мы выжили только за счет того, что оставалось у нас из личных вещей, да из сшитого раньше. Моя мать обменивала одежду на еду. Поначалу она даже отдавала вещи в кредит, но потом выяснилось, что никто не возвращает тебе денег. Кто это будет платить еврею. Они же хотели, чтобы все евреи были мертвы.
У нас больше ничего не было, а когда пришли немцы, то отобрали у нас жалкие остатки наших домашних ювелирных украшений.
Они сказали, что если кто что спрячет, то поплатится жизнью, грозили убивать целыми семьями. Так что мать отдала немцам все, что было.
А немцы стали распределять потом карточки на пищевые продукты.
Это случилось тогда, когда нас переселили в гетто. Да. Детям не разрешали самостоятельно отоваривать карточки, нам не позволялось ходить в школу, и всех переселяли в гетто.
Они потом заставляли всех работать.
Когда я приезжал в Литву в 1989, я видел и дом, в котором мы жили в Слободке. Тот же дом стоял на том же месте. И в этом доме, где я жил был “рабочий департамент”, где они распределяли евреев по рабочим местам.
Обычно евреев прогоняли на работу по улицам. Они шли пешком, и на каждом из нас была желтая звезда. Они заставили нас нашить желтые звезды на грудь – с левой стороны и на спину.
Нам нельзя было ходить по тротуарам – только по мостовой.
В одной квартире с нами жило еще две семьи – на каждую выделили по комнате. У нас теперь была общая кухня, на которой впрочем, особенно и нечего было готовить.
Я помню горькие и смешные моменты. Среди нас жила одинокая женщина, рацион которой был очень скуден. Она начинала готовить, а под конец, после того, как она заканчивала и пробовала еду в процессе приготовления, у нее уже почти ничего не оставалось.
Для всех нас нашлась работа. Те, кому уже исполнилось тринадцать лет, должны были работать. Мы работали в местном аэропорте. Поначалу я был слишком мал для этого. Но неработающие дети должны были быть зарегистрированы. Так что я, чтобы получать свои полбуханки хлеба, пошел работать вместо того, кто не хотел выходить на работу.
Евреи называли такого человека “Маллах”, что значит “ангел”. Так много лет назад называли тех, кто шел рекрутом в армию вместо того, кого должны были призвать. Человек сказывался больным, ему давали справку, а потом забирали другого.
И я работал там вместо одного ювелира, который и в гетто делал украшения из какого-то низкопробного золота.
Так что я копал ямы и убирал землю в аэропроту. Никого не волновало, что я маленький. Всех, кто был в моем возрасте, убивали. А я работал и потому остался в живых.
Мы работали там с семи утра и до семи, восьми вечера. И моя мама работала там же, но только до двух часов дня. Она тоже копала и отбрасывала землю.
В каждой аэропортовой бригаде были капо, которые выводили нас на работу. С нами шла охрана, а потом нас оставляли работать.
А вечером приходили охранники и вели нас обратно. Они обыскивали нас, чтобы мы не пронесли ничего из еды или каких-то там вещей. У кого что-нибудь находили, здорово били. Некоторым все же удавалось променять в течение дня у местных одежду на какую-то еду.
В гетто работала еврейская полиция. Там были свои пожарные, начальник полиции и староста, а также доктор. Его фамилия была Элькис. Немцы заставляли управлять в Слободке так, как-будто это был маленький городок.
Каждой семье ежедневно давали 250 граммов хлеба на человека и какие-то овощи, чтобы приготовить водянистый суп, и каждый готовил себе сам.
Там же жили и дети. С некоторыми из них, с теми, которые выжили, мне потом довелось встретиться. У меня даже были друзья в гетто. Даже в этой жуткой ситуации мы находили возможность играть на улице. А потом я начал взрослеть, заглядываться на девочек и замечать, что и девочки на меня посматривают.
У нас, конечно, не было никаких “клубов”. Мы просто играли и гуляли все вместе в гетто. Но эти игры были очень ограниченными. Все-таки постоянно чуваствовалось, даже на улицах, напряжение.
Чтобы увидеться друг с другом, мы выходили на улицу, но ненадолго – ведь у нас был комендантский час.
Около 9 часов вечера я обычно выходил погулять. Я даже встречался с девочкой, с которой очень любил поговорить. Не помню сейчас ее имени. Мы жили в двух кварталах, и иногда мне приходилось возвращаться уже после наступления комендантского часа.
Помню, я заледенел от ужаса, когда услышал, как литовский полицейский приказывает мне остановиться. Я думал, он убьет меня на месте. Но он расспросил меня обо всем и передал еврейской полиции. Там мне сказали, что нарушение мое карается одним днем тюрьмы. А потом они заорали “стоп” кому-то другому, а немецкая полиция бросилась вдогонку за каким-то “контрабандистом”, который пытался пронести что-то в гетто или вынести из него, и меня просто бросили. Но они помнили меня и знали, что я никуда не денусь.
Когда они погнались за нарушителем, я увидел, как тот уронил какой-то маленький сверток, побежал туда и поднял это, засунув себе под рубаху. Никто меня не видел, потому что они были слишком заняты, а я пошел домой и спрятал найденное под матрас.
Мама все видела, но я сказал ей, чтобы она не спрашивала меня ни о чем, пообещав ей рассказать все позже.
Потом я вернулся на то же место дожидаться полиции.
Между тем они все же схватили беглеца, вывернули ему карманы, но ничего там не нашли. Так что, не желая того, я все же спас ему жизнь, а он, как выяснилось, спас меня.
Нас обоих посадили в кутузку, а около двух часов ночи меня отпустили домой. Когда я пришел, мать, брат и сестра ждали меня и очень беспокоились.
Они открыли сверток и нашли там сто пятьдесят тысяч немецких марок! Целое состояние на то время для нас.
Мама спросила меня, не украл ли я их, потому что по-прежнему считала, что, хотя мы и были на тот момент нищими, ее дети не должны воровать. Они хотели знать, где я взял эти деньги. И тогда я рассказал им, что произошло, и что я спас этому парню жизнь, а он спас всю нашу семью.
Делать ничего не оставалось. Но мы сумели с помощью этих денег пережить два зимы. На следующий день после этого случая мама прикупила еды на черном рынке. Мы были очень осторожны и никогда не тратили помногу, чтобы не вызвать подозрений, только – чтобы прокормиться.
Да. В гетто был и черный рынок. Некоторые торговали там товарами “снаружи”, хотя гетто было окружено двойной стеной с колючей проволокой. На черном рынке продавали неплохую еду – за “настоящие” деньги или за какие-то ценности. Некоторые, рискуя жизнью, все же утаили от немцев какое-то золото и серебро, а теперь продавали это за еду.
Они очень рисковали, потому что золото или серебро могло привести их к смерти, причем расстрелять могли всю семью. Так что, как бы глупо это ни выглядело, большинство людей отдали немцам все.
Литовцы в то время готовы были убивать евреев так же, как и немцы.
Что же до моей находки, то никто так ничего и не обнаружил. Меня однажды позвали в полицию и расспросили о том случае. Я что-то выдумал тогда.
Шефом полиции бы человек по фамилии Леви. Позже они убили его, как убили и всех остальных полицейских, когда ликвидировали гетто. Так вот Леви тогда предположил, что три еврейских полицая подобрали деньги. Я молчал. Деньги-то были у меня, но я никак не хотел отдавать их, и я заткнулся.
Через пару дней меня опять вызвали в полицию. Они хотели, чтобы я засвидетельствовал, будто один полицейский передавал другому эти деньги. Но я объяснил им, что ничего не видел, потому что сидел в тюрьме. Я не хотел, чтобы кто-нибудь пострадал. Если не воспользоваться в этих условиях подходящим случаем, можно и не выжить.
Вот, мой брат в гетто заболел. А за те деньги мы сумели купить ему лекарство. Я даже помню, что именно мы покупали. Лекарство называлось “сульфа”.
На этом заканчивается первая глава по материалам инстрвью Дэвида Смита-Сото, профессора журналистики Техасского университета в Эль-Пасо. Интервью давал Давид Каплан (узник номер 84424 концентрационного лагеря в Дахау).
*****
Глава вторая. По материалам интервью от 25 апреля 2004 года.
Итак, Слободка – это было гетто. Я уже рассказывал о том, что там, в пригородах Ковно, жили беднейшие из евреев. Литовцы потом заставили евреев поселиться в гетто. Я уже говорил, что работал на террирории аэропорта.
Там было страшно. Одного из моих соседей по работе казнили прямо на заднем дворе Рабочего департамента. Они могли убить тебя, когда просто тренировались в стрельбе.
Дело было зимой. Шел снег. Не знаю за что, но его расстрелял эсэсовец. Я видел, как плачет сестра убитого.
Мы не жили с ним по соседству. Знаете, вначале мы жили в гетто на углу, прямо у входа в гетто, у ворот.
Обычно литовская полиция водила людей на работу. Потому что евреям ведь было запрещено ходить по тротуарам, так что они со своими звездами впереди и сзади шли по улице под конвоем литовцев. Они вели нас маршем, а потом колонной – туда, где мы должны были работать – в мастерские, в аэропорт, куда-то еще. Мы называли это “командами”, по-русски, как “бригада”. А главный в каждой команде назывался капо.
Мы работали и за территорией гетто. Там тоже командовал еврей. Этот капо не разговаривал по-литовски, и я говорил иногда с ним по-немецки. Некоторые капо были хуже немцев. Если евреев не били в гетто свои полицейские и капо, их избивали немцы и литовская полиция. А другие охранники стояли вокруг и смотрели. Нам не давали ходить там, где ходят обычные граждане, потому что мы не были людьми.
Они разводили народ на разные работы. Однажды я резал стекло, потом чистил снег, вместе с другими, взрослыми, хотя я был слишком юным, чтобы так работать. Иногда нам разрешали ездить на автобусе, но в самом начале моей жизни в гетто я еще не работал. Это началось позже.
Каждого, кто входил в ворота или выходил из ворот гетто, останавливали на выходе. Они обыскивали всех евреев в поисках хлеба или другой пищи и отбирали это. Некоторые старались принести в гетто деревяшки, чтобы топить, ведь была зима, и температура опускалась иногда до тридцати градусов мороза.
Люди пилили деревья, разламывали мебель, чтобы натопить, и в конце концов ничего не осталось. По ночам, да и днем мы одевались в квартирах во что-нибудь теплое, чтобы согреться.
Если охрана находила при обыске что-то нелегальное или деньги, то могла избить так, что человек после этого попадал в больницу на две, а то и на три недели.
Мы выживали за счет тех денег, которые я тогда подобрал, и мы ходили на черный рынок, где продавались иногда даже сигареты. Я никогда не забуду парня, которого повстречал позже в Дахау. Он мог отдать половину своей дневной порции хлеба за пол-сигареты, и курил он так, как будто был в раю.
Он был стекольщик из Ковно, настоящий художник, который делал зеркала и выписывал на них красивые картины, но он долго не прожил. Он умер вскоре, потому что не умел выживать. Но вот так работал черный рынок.
В Дахау была и еще одна история. Немец как-то спросил, не знаю ли я кого-нибудь, у кого есть сигареты. И я сказал: “я тебе их достану”. А потом я пошел в другое место, и там был другой немец, которого я спросил, не может ли он дать мне сигареты, и спросил, сколько они стоят. Многие из охранников были там, в Дахау, в лагере номер один, инвалиды, без руки или без ноги. Здоровых отправляли на фронт биться с Россией. И вот те, что постарше, старались заработать марку-другую. А я был мальчиком, для меня все были “старыми”, знаете ли.
И вот один меня спросил про сигареты, и они у меня появились. “Сколько”? – спросил охранник. “Я хочу три марки”, – ответил я. “А вот некоторые продают за шесть”, – сообщил мне немец. Так что они иногда говорили мне: “я принесу деньги”. Я так покупал и продавал, заодно знакомясь с ними.
Однажды пришла посылка из Красного Креста. Впервые за четыре года. Там была пачка сигарет, фунт сахара и банка сгущеного молока. Сюрприз! Впервые за четыре года.
Это все было в лагере номер один в Дахау, не в гетто.
Но давайте опять вернемся в то время, когда мы поселились в Слободке.
Там у нас, как я говорил, была кухня, на которой нечего было готовить. Людям иногда давали немного супа – три четверти воды и немного муки, а больше – никакого хлеба. Мужчины и женщины тогда жили вместе. Иногда их вместе водили на работу, а дети оставались дома. Никаких школ, как я уже говорил, не было, зато вокруг гетто была протянута колючая проволока. Так евреев в гетто отделяли от неевреев. Каждый день грузовик привозил в гетто овощи, и еще выдавали хлеб. По рациону, как я уже говорил. И это то, на что мы должны были прожить.
Нам ничего не разрешали покупать у литовцев, иначе нас бы убили. Но нам все же удавалось иногда меняться. Это происходило, когда нас водили на работу за пределы гетто. Мы часто видели литовцев или еще кого-нибудь. Если у кого что-то было, например – лишняя рубаха, мы старались поменять это на еду. Если на тебе был свитер, то его тоже меняли на еду.
А деньги мы с мамой осторожно расходовали на черном рынке.
Мы по-прежнему жили в гетто с мамой, сестренкой и братом. У брата выявился миокардит, в сердце попала инфекция, и нам нужно было лекарство. “Сульфа”, которую мы покупали и давали ему, а я доставал это лекарство на черном рынке.
С нами был и мой дед – отец моей матери. Он не работал там. Он был настолько напуган, что не знал, что с ним происходить. По-моему, тогда он начал потихоньку сходить с ума.
Перед тем, как меня перевели в Дахау, я был направлен в другой концентрационный лагерь – Санзай. Это после того, как года два я провел в гетто.
К тому времени мой дедушка умер. Он заболел, сошел с ума. Потом сломал бедро. А ведь он, бедняга, когда-то был каменщиком, сильным человеком. Он работал, кладя кирпич и крася стены в домах, всю свою жизнь.
Нас всех потом переселили из гетто в концлагерь. Там они держали мужчин и женщин раздельно. Но мы по-прежнему были в одном лагере, на одной территории. Женщины жили в одних бараках, а мужчины – в других.
Санзай также находился в Литве. Там позади была еще железнодорожная станция.
После того, как нас перевели в концлагерь, мы перестали что-либо понимать вообще. Мы не знали, что происходит, у нас не было ведь ни радио, ни других средств общения с местным миром. Все, что нам доставалось – это лишь слухи. Мы чувствовали себя в полной изоляции.
Поначалу казалось, что в лагере будет легче – ведь они переводили туда целыми семьями. Может быть, немцы планировали использовать нас на каких-то других работах. Мы слышали, что некоторых послали добывать уголь в Эстонии. Они все время увозили людей в другие места. Как потом оказалось, страшные места.
Денег у нас больше не осталось, как не осталось вообще ничего из личных вещей. Правда, в отличие от Дахау, здесь мы ходили в своей собственной одежде, а не в тюремных робах.
Здесь была мастерская по ремонту обуви, и другие всякие мастерские.
Большинство людей заставляли работать за пределами лагеря – на военных базах, например, за исключением детей.
Нас все время гоняли на работу и обратно. ЛЮди работали и на складах, выполняли какую-то работу для немецкой армии, чинили военную униформу. А потом их уводили назад в охраняемый лагерь. И вели, как всегда, посреди улицы, с нашими желтыми звездами, впереди и сзади. И также были бригадиры-капо, а вокруг – охрана из СС.
Еще в гетто произошла вот какая история.
У моей сестры Сони была подружка, которую тоже звали СОнай. И вот у той сони был брат по имени Вольф и мама. Немцы, как мы узнали, должны были отослать этого Вольфа куда-то в литовскую провинцию, но вот бумаги никак не приходили. Они все боялись, что в конце концов Вольфа пошлют куда-то, где его просто убьют. Так вот на два месяца мы припрятали Вольфа, пока его не отправили в какое-то менее опасное, как нам казалось, место.
Я стал своеобразным посланником между этой семьей и их дядей Йoффе, сапожником, который жил в гетто в десяти кварталах от нас. Вольф боялся выходить на улицу, так что я курсировал между нашими домами, чтобы передавать то одежду, то еду семье, Вольфу от дяди Йoффе. Он тайком ремонтировал жителям гетто обувь за деньги, и помогал своей семье. Обычно ему я рассказывал все, что знал сам. И я посматривал за тем, как он работает, как чинит сапоги, как режет кожу. Смотрел я очень внимательно, потом приходил домой, брал ботинок, нарезал кожи, и забивал молоточком гвоздики в подошвы, так что даже не соображая, что я учусь, в конце концов освоил потихоньку профессию сапожника. Думаю, что я работал очень хорошо для своего возраста.
Я был независимым ребенком и рано узнал о том, что навыки и умение могут изменить твою жизнь. В частности, это умение сапожничать дало мне возможность выжить в лагерях.
Когда я очутился в первом из них, то всех спрашивали: “сапожники есть”? Я вышел и сказал – “я сапожник”.
Они организовали мастерскую для починки обуви для немецкой армии. Немцы всех спрашивали – кто что умеет. Так что я работал, пока один офицер не понял, что я – не настоящий сапожник. Ведь я был самоучкой, только учился. Всего там, в мастерской, было примерно десять человек. Вскоре мне сказали, что отошлют меня обратно в барак, потому что я никакой не сапожник.
А вот рядом со мной был мужчина постарше, настоящий мастер, который не любил всякую грязную работу – складывать, резать, чистить обувь. И вот он сказал: “оставьте его мне. Если он будет помогать, я буду делать и ремонтировать больше обуви. И немцы согласились. Две или три недели я должен был доказывать им, правда, что умею по-настоящему работать. Но это было лучше, чем в других местах.
Итак, я стал сапожником, причем совсем неплохим. Не в эти две-три недели, конечно, а попозже.
А потом они привезли новые машины, чтобы клеить подметки, и меня поставили старшим над этими машинами.
Немцам я стал нравиться, потому что я был хорошим работником. До этих машин мы подбивали подметки деревянными гвоздями.
Я был хорош в этом деле, и сам делал, помимо приклеивания подметок, три пары сапог в день. Прекрасная работа. И меня оставляли в покое, потому что я справлялся и стал профессионалом. Может быть я быстро научился потому, что был мальчишкой, и схватывал все быстрее, чем взрослые. А потом, я был буквально очарован этими машинами. Я действительно хорошо трудился, приклеивая эти подошвы.
То, что я стал экспертом, спасло мне жизнь.
Однажды, когда все работали, в лагерь приехали автобусы. Около двадцати красных машин с затемненными стеклами. Когда-то это были городские автобусы – такие же, как те, на которых я добирался до школы, а теперь их использовали для армии.
И вот немецкие солдаты и литовцы зашли в бараки и выгнали оттуда всех детей и старших, которые за ними приглядывали. Родители уже были на работе на складах, распределяя немецкую форму по полкам.
Они бросали детей в автобусы и не жалели никого. Я видел, как один солдат – сам хромой инвалид – взял свою клюку за нижний конец, ручкой-крюком зацепил за шею одного из детей и сбросил его с верхних полатей в бараке на пол, а потом так же затащил в автобус. Дети кричали и плакали. Абсолютно варварская картина. Они заполнили этими детьми все автобусы и увезли их в Девятый форт в Каунасе, где их всех убили.
Многие из этих ребят были моего возраста, а некоторые – моими друзьями. А я смотрел на это через окно мастерской и надеялся, что за мной не придут вот так же, как за моими товарищами и не увезут туда же, куда их. Но другие не умели делать того, что умел я. И я работал.
Все видели, как плачут и кричат дети, когда их грузили в автобусы. Это была трагедия. Все были напуганы снова. Когда родители вернулись в бараки с работ, они не увидели своих детей и тоже принялись кричать и плакать. Вам даже не понять того, что там происходило. А некоторые бросались на заборы, через которые был пропущен электрический ток и так умирали. Это было страшно. В некоторых семьях было по трое, четверо детей. Теперь не было никого. Описать это нет возможности. Я до сих пор помню мальчика, который молил охранника “пожалуйста, оставьте меня”.
И никто, никогда не говорил о том, куда и зачем увезли детей. Но позже, когда гетто и наш лагерь ликвидировали, нас, оставшихся, отвели на железнодорожную станцию, где мы и узнали (от литовцев, наверное) о том, что случилось с теми детьми. И тоже самое они сделали с детьми в гетто.
А вот я этот период пережил. Я стал сапожником, причем хорошим сапожником.
В этом лагере, Санзай, как ни странно, тоже был такой черный рынок. Я к тому времени был в хороших отношениях с немцем, контролировавшем работу в нашей сапожной мастерской. По-моему, ее называли Сан или Шанц.
В то время была создана под немцами и литовская армия, в которую они призывали молодых людей. Обычно их направляли в Санзай, и для них мы тоже чинили обувь.
Так вот, с одним из немцев я даже подружился. Однажды он спросил меня, не могу ли я найти кого-то, кто захочет купить кожаные подметки, чтобы немного заработать и могу ли я продать их на черном рынке. Я сказал “конечно”. И я пошел на этот рынок, нашел там покупателя и стал продавать эти подметки, а потом делился с немцем – 60 на 40. Все это было рискованно, но так я получал немного денег, чтобы помочь своим родным.
Я оставлял себе 60% от продажи, а немцу отдавал 40%. Он был очень доволен, и надо сказать, он был вполне даже симпатичной личностью. Некоторые из них были не такими уж животными, а с другими можно было разговаривать. Ты веть не можешь постоянно быть негодяем, потому что хотя бы наполовину, но ведь ты человек. И вот я так торговал “по-черному”, во всех пяти бараках. В каждом из них находился свой сапожник, так что я поставлял им необходимый материал чуть не каждый день.
В каждом бараке был свой капо. В каждом из них были трехэтажные нары для сна. Уборная находилась снаружи, не так, как в Дахау. Было плохо, но не так ужасно, как в Дахау. Нас кормили фасолевым супом, в котором, конечно, было больше воды, чем всего остального, нам давали примерно 100 граммов хлеба. В общем, с фасолевым или гороховым супом голодным не останешься. Там было, конечно, плохо, но не так плохо.
Что-то было даже лучше, чем мы ожидали. Плохо то, что в супе постоянно был песок. Они готовили для нас на улице, и в котел постоянно попадал песок. А потом он оказывался у тебя во рту и на зубах.
Санзай был больше похож на гетто, но женщины были отделены там от мужчин. И все должны были работать – в мастерских или еще где-нибудь, на складах. И умирать внутри. От голода. Мы находились в унизительном, ужасном положении, постоянно боялись и каждый день сталкивались со смертью.
Особенно было страшно тогда, когда они забрали детей. После этого уже детей в лагере не осталось. Они забрали всех. Может двое-трое спрятались, но недели через три нашли и их и увезли. Вы не поверите, что это такое. Я никогда не видел ничего подобного, и иногда мне хотелось умереть. Я хотел, чтобы меня убили, но чтобы это были не немцы. Иногда, когда над лагерем пролетали русские самолеты, я желал, чтобы на нас упала бомба и убила меня, и таким образом я не умру от немецких рук. Это все, чего я хотел в такие моменты. Так было плохо.
Ситуация, положение разрушали всех. Мы постоянно слышали плачь, крики матерей и отцов несчастных детей, с нами обращались варварски. Тяжело даже объяснить, как это было. И я чувствую себя виноватым потому, что я выжил тогда, когда всех моих друзей, моих сверстников убили. И лишь по одной причине я выжил – потому что был сапожником.
У родителей отбирали родных детей. Там был один по имени Лемхен, у него было двое сыновей. Я никогда не забуду его, потому что я им восхищался. Он, кстати, снимал когда-то у нас комнату в нашем доме. Он был преподавателем в литовской школе до войны. Он был и переводчиком с немецкого на литовский. Авторы даже присылали ему свои книги на перевод. Он никак не мог поверить в то, что немцы могут стать такими варварами. Лемхен даже добавил какие-то слова в литовский язык. После того, что случилось с его сыновьями, он постоянно повторял, как заклинание: “я знаю, мои дети живы”. Не сработало. И его тоже убили.
В Литовских городах были места, куда специально селили солдат, чтобы охранять население от вторжения. Они называли их “башнями” или “фортами” – вместе с прилегающей территорией. Одним из таких был Девятый форт. Девятый форт. Я смотрел из-за колючей проволоки в гетто, как проходили под конвоем СС тысячи евреев. Они кричали нам: “где еврейское гетто в Каунасе”? И я кручал им – “здесь, здесь”! Потом я узнал, что это были евреи из Вены. Вместо того, чтобы привести их в гетто, этих людей отправили в Девятый форт и убили их всех. И там же они убивали всех детей.
Потом они приводили других евреев и в гетто, а люди жаловались на то, что на всех места не хватает. Это тогда немцы сказали нам: “не волнуйтесь, места вам хватит”. Через несколько недель или через месяц они забрали половину и отвели в Девятый форт. Тогда места стало больше.
Гетто фактически превратилось в лагерь. Хуже всего было в октябре. Это в октябре они убили половину всех людей. Они отбирали самых сильных. Команда была – направо, налево, направо, налево. А слабых они посылали туда и убивали.
Это было в октябре 1943. У меня даже где-то хранится дневник, где я записывал даты. Когда они отделяли сильных от слабых, нам снова повезло.
Моему брату было 18, мне 14, а моей сетренке – 16. Они отправили нас направо. Они нашли, что мы еще можем работать. Они тогда даже деду разрешили остаться. То есть так повезло, что спасли жизни тогда и нам, и нашей маме, и деду. Он, по крайней мере, выглядел вполне здоровым. У каждого из нас была справка о том, что мы работаем.
Сегодня евреи Литвы, некоторые люди в других странах, оккупированных тогда Германией, те, кто хоть немного сочувствуют евреям, справляют день памяти в честь того, что произошло в октябре.
Гетто, как я уже говорил, было полу-концентрационным лагерем. Здесь просто вместе жили семьи, а в лагере их разделяли.
В конце концов меня и брата отправили в лагерь номер один в Дахау. Мы так там ослабли, что даже не были в состоянии работать. Нас тогда разлучили, и это для меня стало трагедией. Я всегда виню себя в том, что вовремя не позаботился о нем. Конечно, это не было моей виной, но когда я вспоминаю об этом, у меня в животе что-то переворачивается. Он ведь был отличным человеком. Прекрасным, юным мужчиной. Достойным человеком. У него распухли ноги, и он был не в состоянии одеть на них башмаки. Вот как это было. И они забрали его и увели умирать. Они перестали его кормить. И это было в концлагере Дахау.
Дахау – город, где они организовали концентрационный лагерь. Наш назывался “Дахау лагерь номер один” – в пригороде Дахау, в двадцати примерно километрах от Мюнхена и от Ландсберга. Ландсберг – тот город, где Гитлер написал “Майн Кампф”. Он, по-моему был в это время, в 1925 году, в тюрьме.
Там было всего десять лагерей.
Один, два, три… большинство литовских евреев находилось в лагере номер один. Потом там были венгры, а позже туда привезли людей из знаменитого образцового гетто в чехословацком Терезине, Терезиенштадте, а они были в концлагерях уже с 1939 года.
Некоторых привезли из польской Лодзи. Они умирали там как мухи. Там – в Дахау, я имею в виду.
Мой брат выжил в Санзай, но умер в Дахау.
Когда русские стали наступать и появились возле литовской границы, немцы закрыли Санай. Они перевели нас пешком через зеленый мост к железнодорожной станции и упаковали в вагоны для коров, как скот. Там не было место даже для того, чтобы нормально дышать.
Когда поезд тронулся, все запаниковали, и я понял, что удовольствия от этой поездки ожидать не стоит. Некоторые пытались выпрыгивать из окон. Я тоже хотел выпрыгнуть, но моя мама не пустила меня. Она боялась, что я погибну под колесами. Они, люди в вагонах, вообще хотели оставаться в Литве, где надеялись выжить. И многие – выжили. Те, кому удалось спрятаться от нацистов и от литовцев. Из огня да в полымя.
После войны я встретил одного такого. Он рассказал мне, как прятался, как передвигался по ночам, как забирался в сады и огороды, чтобы украсть что-нибудь съестное, как на него лаяли собаки, и как он убегал от них.
Когда пришли русские, все изменилось. Его забрали в армию. Но многие убились, когда выпрыгнули из поезда, который шел со скоростью пятидесяти миль в час.
Нас везли в коровьих вагонах как скот, и мы приехали через Германию в Польшу – на берег моря, в Данциг, точнее – в маленький городок Студофф.
Всех женщин и мужчин выгнали наружу и отделили друг от друга, а потом погрузили в разные поезда. Мы думали, что они вначале убьют всех женщин, а потом – всех остальных. Все равно с нами обращались, как с животными. Мы не могли в вагонах ни сидеть, ни тем более лежать. А в качества уборной там был небольшой горшок. Это было страшно. Мы думали, что все умрем, нас всех поубивают.
Меня отделили от моей мамы, моей сестры, и я думал, что их увезли убивать, а нас просто убьют в другом месте. Но их убили не сразу. Женщин направили в концлатерь Треблинка, где моя мать и сестра заразились тифом и обе они умерли примерно через полгода. Моей маме было к тому времени сорок семь, а сестре – всего шестнадцать. Я встретился с одной женщиной после войны, и она рассказала мне, что случилось.
А мы уже были в лагере номер один в Дахау. Там, к нашему удивлению, были и женщины. Некоторые из них – даже еврейки, но моих мамы и сестры не было среди них. У женщин, как ни странно, была несколько лучшая жизнь. Их кормили лучше и лучше с ними обращались. Были даже случаи, когда немцы заводили с еврейскими девочками романтические отношения, а некоторые оказались беременными. Женщины в Дахау оказались откуда-то из Чехословакии или Румынии. Некоторые из них говорили на идиш, но большинство – по-венгерски.
Однажды я увидел, как девушка, подойдя к забору из колючей проволоки, бросила что-то через него. Я подошел и увидел хороший кусок хлеба, в котором я так нуждался! Я помахал ей издали рукой, и потом целый месяц она подбрасывала мне что-то – то яблоко, то гружу. Я видел ее только издали, но помню, что губы у нее были подкрашены. Было это в 1944, и мне тогда было четырнадцать. Это был такой “роман на расстоянии”. А я задумывался о том, как увижусь с ней потом. Наши гормоны продолжали свою работу.
22 апреля 1945 года они устроили Марш Смерти, но я снова выжил, а когда через пару месяцев нас освободили, я увидел девушку, которая шла со своим отцом. Она посмотрела на меня, а я посмотрел на нее. Она подошла и спросила: “это ты – тот маленький мальчик, которому я бросала хлеб”? И когда я услышал это, я бросился обнимать ее.
Мы были оба смущены. Мы не знали, что будем дальше делать в жизни. Мы оказались вместе в лагере перемещенных лиц в Ландсберге, и я боялся, что начнется что-то, чего я не смогу закончить. Но тогда я больше всего на свете хотел найти свою маму. Мы потеряли друг-друга, и я даже не помню, как ее звали. Венгерская девочка, которая научила меня немного говорить по-венгерски. Я до сих пор помню ее синие глаза и песню “Все прекрасно”.
Но это было потом.
А пока поезд привез нас прямо в главный лагерь. Нас выгнали на плац, вокруг которого располагались такие круглые бараки. Они называли их “пильзен” (pilsen), “грибы”. Да. Там были круглые бараки. В каждый из них загоняли по двадцать – двадцать пять человек. Мы спали на полу. В середине был круг, через который можно было выйти наружу. Матрасы были сделаны из бумаги, так что когда шел дождь, они легко намокали.
Каждый день нам давали два стакана воды с овощами и, помнится, буханку хлеба. Одну – на двадцать человек. И снова там были начальники-капо – евреи и венгры. Злые, готовые избить тебя палками, вечно орущие, вечно оскорбляющие.
Они ходили вокруг и жестоко избивали нас, совсем как нацисты, хотя они и были евреями. Может быть, они были таким и до того – до того, как их поставили начальниками.
Каждый день они будили нас криками в четыре утра, пересчитывали и выгоняли на работу. Там все время шел дождь, и нам никогда не удавалось как следует просохнуть. Мы строили завод, который должен был выпускать запчасти для самолетов.
Мы месили и носии цемент. Вначале мы цементировали аллею. Таскали на себе мешки весом по 50 кило. Работа была тяжелейшая. Люди снова умирали там, как мухи. Наци добивали их. Цемент попадал везде – в нос, в глаза, в уши, засыхал там, а когда ты пытался выковырять его оттуда, вместе с цементом шла кровь.
Название компании по выпуску этих запчастей для самолетов была “Молл”. Это была большая немецкая компания. Кто-то после войны пытался судить ее, но не помню, кто. Их обвиняли в использовании рабского труда.
Однажды меня тщательно расспрашивала женщина-адвокат, которая хотела знать, как со мной обращались в лагере. Немцы все же заплатили кое-что за свои преступления.
Я судил их и с тех пор получаю пенсию. 535 долларов в месяц. Ну, хоть что-то они платят.
Да. За то, что использовали рабский труд детей. У меня от них пенсия.
Возвращаясь к нашему поезду в Дахау: женщин, которых отделили от нас в Польше, мы никогда больше не видели. Это, напомню, было в октябре 1943, после того, как они ликвидировали половину населения в гетто и лагере Санзай.
Боьные налево, здоровые – направо. Потом – женщины и дети – налево, мужчины – направо.
Когда мою мать таким образом отделили, я подбежал к ней, крича “я хочу быть с тобой”. Но она оттолкнула меня и сказала: “ступай назад, там ты выживешь”. Тогда я побежал к немецкому офицеру и стал говорить ему, что моя мать – здоровая сильная женщина, она может работать, и уговаривал его, чтобы он поставил ее вместе со здоровыми – справа. Неожиданно он согласился и, отпихнув меня, поставил мать туда, где уже была моя сестра, справа.
Но я расскажу о своей маме еще позже. Но вернемся в концлагерь в Литве, в Санзай. Уже не помню, может быть это было и в Дахау, один доктор из Венгрии посоветовал мне кипятить зеленые сосновые шишки. “Вскипяти их в воде и пей эту воду. В ней витамины. Это поможет держать в порядке тело, когда ты замерзнешь или простудишься (что было вполне обычным в тех условиях). Он был из Будапешта. Он, врач, женился на совершенно не еврейской женщине, совершенно ассимилировался. Они все равно забрали его. Ухо-горло-нос, насколько я помню. Он еще немного говорил по-немецки. Говорил он на каком-то полунемецком, с венгерским акцентом.
И он объяснял мне: “слушай, ты еще молодой. Я вижу, как люди умирают каждый день. В этих бараках всего – по сорок-пятьдесят человек в день”.
Сам я мог сосчитать около двухсот человек. Хорошо это помню.
“Говорю тебе – если не хочешь на тот свет, пей витамины. Ты не принимаешь их, не ешь овощей. Все, что у тебя есть – по сто грамов хлеба в день и немного супа, в котором, кроме воды – немного пшена. Любая инфекция, простуда – и ты можешь умереть. Самое лучшее, знаешь что? Видишь эти деревья”, – говорил он мне, – “Я не знаю, как их назвать. Они все время зеленые. На идиш, они называются “сеске”.
Сосны сбрасывают зеленые маленькие шишки.
“Собирай их, клади в кастрюлю, вари их и принимай, как ты пьешь чай. Эта вода – просто пей ее. В ней витамины, и ты останешься в живых”. И я слушал его. И я делал, как он говорит, потому что я хотел выжить и знал, что с каждым днем теряю в весе. И я, и еще один парень – мы вместе пили это варево.
А через месяц или около того я узнал, что этот доктор уже умер. Он не мог работать так тяжело и выдерживать весь этот гнет, но вот, судя по всему, он дал мне хорошую идею. Я надеюсь, по крайней мере, что именно его советы помогли мне выжить. Я был тогда ненасытен к жизни.
Однажды в гетто забрела собака. Уличная, знаете ли, собака. И я завидовал этому псу, потому что он мог входить и выходить, а не быть здесь взаперти. Я так сильно хотел жить, что завидовал птицам, которые могли прилетать и улетать из гетто. А я без всяких причин был узником.
И поэтому тоже я пил эту воду из-под шишек. Иногда я даже мог подогреть ее. Мы обыхно по утрам выходили очень рано, а возвращались поздно вехером. Постоянно (или мне кажется) шли дожди, стояла страшная погода, и одежда наша никогда не высыхала. Это было в Ландсберге. Все время шел дождь.
А еще в гетто я смог изобрести маленьую печку.
Я уже говорил – ни у кого не хватало дерева, чтобы топить плиту для готовки пищи. А у меня все время крутились в голове всякие идеи, я любил что-нибудь изобретать. И тут я подумал и смастерил маленькую жестяную печку. Сделал ее точно под размер кастрюли. Я разрезал кастрюлю и вырезал из нее такие кольца. На донце я оставил дырку, через которую можно было топить щепками. Всего хватало каких-нибудь двух полешков, и можно было сварить что-нибудь. Можно было сказать, что это была кастрюля-самоварка такая.
Я отрезал здесь, загнул там, а потом сложил определенным образом. В маленькую дверку проталкивал дерево. Сверху горел огонь, на котором стояла кастрюлька.
Так что не нужно было много дерева – всего два кусочка, чтобы сделать себе полный обед.
А потом я стал делать такие печки-кастрюли и продавать их. Их хорошо покупали, а дрова, деревяшки люди покупали на черном рынке.
Еще позже я приделал к кастрюльке трубу, и печка стала немножко согревать воздух в комнате. Это было важно, потому что уголь и дрова было достать очень, очень трудно. Я тогда продал двадцать, тридцать или сорок таких печек.
Это было перед тем, как меня перевели в концлагерь. И это было даже здорово. Я хорошо выполнял свою работу. Молоточком постучал здесь, согнул там, и выходила замечательная вещь. Это было даже до того, как я стал сапожником.
Сколько я брал за такую печку? Может, около двух буханок хлеба, точно не помню. И это тоже было замечательно. Я уже был бизнесменом с таким-то делом! Но я же сам их делал. И мне нравилось их делать. Я старался, чтобы у меня получались хорошие вещи. Я делал их под маленькие кастрюльки и пристраивал такие специальные трубки.
А еще, если помните, я говорил о том, как работал в аэропорту на одного ювелира – за треть буханки хлеба.
В России, насколько я знаю, евреев призывали в армию. А в старину их записывали в солдаты на двадцать или двадцать пять лет. Так что, когда приходило время, некоторые евреи посылали вместо своих детей каких-то чужих, платили им за то, чтобы они шли в солдаты вместо них.
Иногда специально на рекрутский пункт посылали кого-нибудь совсем больного, и таких, конечно, в армию уже не брали. Но имя-то было уже записано по тому, кто должен служить. Так что совсем здоровые получали бумагу, в которой было сказано, что они больные. Такие же штуки, как я знаю, происходили и в Соединенных Штатах в свое время. Евреи называли это “Молох”, “ангел”. Ты нанимал ангела. Ангел шел в рекрутский пункт, отмечался там, его отмечали, как больного и выдавали бумагу о том, что он не подходит для призыва. Так что я сделал примерно то же самое. Но я при эром работал. Мне там дали имя Молох, что значит “ангел”.
Таким вот образом функционировала “экономика” гетто. У меня был полный рабочий день, за который я получал четвертушку хлебной буханки, примерно 250 граммов или около восьми унций. Каждая буханка весила килограмм.
Черный такой хлеб. 250 граммов. Они называли этот хлеб “ржаным”. Ржаной хлеб они делали без дрожжей, и он был кислым. Вполне обычно в тех краях. Так что когда я продавал свою печку, у меня было две буханки ржаного хлеба – то есть моя “зарплата” за целых восемь дней.
Мама моя говорила: “знаешь, тебе не надо больше ходить на чужую работу, как Молоху”. А я гордился своей работой и тем, что добываю пищу своей семье. Когда люди просили, я мог сделать трубку подлиннее, и я их делал. Обычно я делал трубки длиной в четыре дюйма, это ведь десять сантиметров? И делал подлиннее, хорошенько заделывал их, чтобы не было утечки дыма.
Мне в это время было тринадцать.
Вернемся к моему доктору. Я уже забыл его имя, но он был хорошим врачом, не таким, как любой другой. Он входил в венгерскую медицинскую элиту. И он еще кое-что мне сказал. Он говорил: “знаешь, я женился на не еврейской девушке и все равно очутился здесь, в концентрационном лагере для евреев. Я не собираюсь возвращаться в Венгрию, потому что они посадят меня в тюрьму. Они сами в этом виноваты. А как только я отсюда выберусь, я уеду жить в Палестину”. Так он мне говорил. Он был потрясающим человеком. Честным, благородным, вежливым. Большинство таких людей были врачи.
Много, много лет спустя после этих событий, много всякого произошло, и я оказался в Мехико. Я приехал в Мексику, чтобы жениться. Пока я был там, пошел в столице в магазин купить себе башмаки. Продавец показывает мне ботинки. Такой абсолютно лысый человек, только что перенесший в клинике Майo какую-то операцию. И вдруг он спрашивает меня, – “откуда ты”?
А я ему говорю – “я из Литвы, из Каунаса”.
Он мне: “я был в концентрационном лагере с одним парнем, с литовскими ребятами, с евреями”. И я говорю: “я тоже”. И тут он: “может быть ты помнишь, там был доктор, который заставлял нас пить жидкость из-под сосновых шишек”?
Когда я услыхал это, говорю ему: “я был там вместе с тобой”. Это было потрясающе! После стольких лет мы, конечно, не узнали бы друг-друга. Позже я к сожалению узнал, что он умер от опухоли в голове. Он был старше меня. Ну, а я был еще тогда молодым человеком. Он был много старше, а после него осталось двое детей.
Ну так вот, в Дахау я больше не шил обуви.
Не ручаюсь за хронографию событий, просто буду рассказывать, что помню.
Когда они перевезли нас в Дахау, там был такой капо, венгерский капо.
По тому, как он орал на немецком, у него, как я понял, был сильный венгерский акцент, который было легко распознать. Там был еще молодой человек и один постарше, и они принялись кричать на нас – прямо, как нацисты. “Вон! Выбирайтесь вон из поезда! Бегом в бараки! Вон”! – кричали они и орали на нас.
“Ого! У нас проблемы”, – подумал я тогда и испугался, что могу не выжить здесь. А этот лагерь, как я уже прежде говорил, был “спутником” Дахау. Это был “Лагерь номер один”. Там они дали мне номер. Мой номер был 84424. А у моего брата – 84425.
Дахау Номер Один.
В этом месте большинство из тех, кого я видел, были из Литвы. Некоторые – венгры. Не помню, были ли они, впрочем, среди нас уже в пути…
Дома были такие круглые, построенные заранее из пресованного картона. По-немецки они звали их “грибы” – “пильзен”, потому что они выглядели, как грибы.
Не пиво “пильзен”, а именно грибы. Знаете, грибы – на ножке такой на маленькой, а сверху – круглая крыша, как шляпка. И там была одна дверь. Объясню, как это выглядело. Интересно, знаете ли, если конечно кто-то захочет на них еще смотреть.
И они были сделаны из какого-то картонного материала. Даже полы не были не бетонные там, не похожие на обычные полы. Шершавые, чтобы никто не упал.
Внутри мы могли сидеть по кругу и общаться. Там даже печка была маленькая. Заходишь внутрь и греешься. Там была маленькая дверка и пару ступенек.
Не очень много народу, потому что кто-то умер… Двое, а то и трое в день. Понимаете, о чем я?
Там был и садик, был такой внешний водопровод, водосбор, собиравший влагу с крыши.
Они выдали нам всем одеяла. Но это были такие “бумажные” одеяла. Знаете, как спальный мешок из бумаги. И нам никогда не удавалось просушиться до конца. Мы всегда ходили промокшие, влажные. Еще и потому, что они никогда не латали протекающую крышу. Постоянная влажность, но мы постепенно привыкли к этому. Мы приехали туда, как мне кажется, в октябре. Мне надо бы проверить, когда именно.
Когда мы уже были там, знаете, что произошло? Примерно через три недели над нами пролетели американские самолеты. Они-то подумали, что это военный лагерь, и атаковали нас.
Семьдесят пять или семьдесят два человека были убиты. Погиб и этот парень – Буканас, литовский парень, друг нашей семьи. Он лежал там с голыми лодыжками. Нет, не пленники, которых немцы звали “эфлинге”. Ты не человек, ты – заключенный, арестованный. В английском это тоже значило бы не человек, а просто “пленный”, “каторжник”.
Никто. Ты попросту не в счет. Ты – не человеческое существо, ничтожество.
Потом они стали строить длинные бараки. Впрочем – тоже самое.
После бомбежки построили новые бараки, длинные. Вместе с новыми бараками появились и новые лагерники. Новые бараки были не круглые, другой формы, они были из дерева, но по сути это было то же самое.
Туда должно было помещаться больше народа. Они нам даже выдали соломенные матрасы. Одна проблема все же осталась. Вода так же проникала внутрь.
Эти были одноэтажные, и один ряд нар. Вот в Санзае были трехъярусные нары. В главном лагере в Дахау – тоже трехэтажные. А здесь, в Легере номер один было ужасно влажно. Вода стояла внутри. Это было ужасно, кошмарно, и противно воняло внутри. Еще одна проблема – это вши. Вши были убийственными. С ними было невозможно спать.
Никакого ДДТ тогда не было. Но что произошло (примерно за месяца три до нашего освобождения), они построили специальную печку. Они называли ее “антилузен” – против вшей. Они собирали нашу одежду, засовывали ее внутрь и там все вши сгорали. Стало намного легче. С тех пор вши не появлялись. Вы даже не можете себе представить, какое облегчение мы испытали тогда. Мы ведь снова могли спать, а наша одежда наконец высыхала. И это была совсем маленькая пехурка, которую они разжигали. Мы стаскивали с себя всю одежду и вышибали ее об стену перед печью, а потом засовывали внутрь. И был еще такой звук, похожий на взрывающийся попкорн. Это было так плохо. Ты не мог спать, есть с этими вшами. Есть такие вещи, с которыми невозможно жить.
Мы могли хоть немного поспать ночью.
А днем… Днем мы проходили с утра по 10 километров, а вечером – еще столько же. Никакой разницы, был ли на улице снег или шел дождь, ты должен был идти на работу. А там все время шел дождь. Мы не мылись, вода была такой холоднющей. Мораль наша была на самом низком уровне. Чувство – ужаснейшее. Ты не чувствуешь себя человеком. Не имеет значения ни твой интеллект, ни твое образование. Ты все время думаешь о еде. Ужасное чувство. Но мое желание выжить было еще сильнее. Это был единственный выход – хотеть жить. Все мои родные уже были мертвы, а я хотел выжить и думал, все время думал.
У меня уже не было такой легкой работы, как, например, шитье обуви. Забудьте вы об этом! Ничего такого в Лагере номер один не было. Мы всю ночь, например, разгружали мешки с цементом. Это было место, где можно было только умереть.
Я уже говорил – условия здесь были нечеловеческие, и люди умирали как мухи. Здесь мы дышали цементом, а из носа у нас текла такая цементно-кровавая смесь. Мы просто выживали, и ничего больше.
У каждого, конечно, была своя собственная небольшая история. Мы работали с цементом 24 часа в сутки, в две смены. Именно в этот момент я впервые подумал о том, что выжить уже не смогу- настолько униженным, настолько уставшим я себя чувствовал.
Но вот один раз я вышел на работу, и там командовал такой еврейский босс – узник, как и я. Он был назначен главным и распределял, кому и куда из живущих в бараках выходить на работу. Очень важная должность. Практически, он частично помог мне выжить, сделав мою жизнь чуток полегче.
Не знаю, почему, но он снял меня с разгрузки цементных мешков и сделал своим помощником.
Это был литовский еврей, которого я знал раньше. Я знал его, его родню, и знал, что перед тем, как взять его самого, они забрали его жену и детей – еще в Санзае, и вдруг он стал начальником в Дахау.
У него тоже была такая собственная история жизни. Он тоже строил какие-то планы, что-то выдумывал, а без этого невозможно было выжить. Раньше, в концлагере в Санзае один немец как-то сказал ему: если хоть один узник сбежит, они уничтожат сотню евреев, сто человек. А там действительно были двое парнишек, которые шептались и строили планы побега. Этот мужчина так испугался, что они сбегут, а за каждого расстреляют по сотне евреев. Так что он сообщил о них немцам, и ребят казнили.
После войны его обвинили в смерти этих двух ребят. Но нашлись свидетели, которые встали на его защиту, которые рассказали, что он вынужден был сделать это, а иначе немцы казнили бы двести человек. И он тоже продолжал говорил, что предпочел потерять двоих вместо двух сотен.
Это было страшное решение. Очень тяжелое. И потом я понял, что тоже хотел бы выступить свидетелем за него, но был слишком занят. Впрочем, после всего я видел его как-то раз.
Он был так одинок, и это был человек с грузом ответственности за других.
Немцы назначили его капо, потому что он сносно говорил по-немецки. Это была личность, настоящая личность. Даже совсем конченые люди, ублюдки, которые убили столько евреев, не трогали его, по-своему уважали и даже носили ему коробки с табаком.
Когда он меня увидал, то решил выбрать меня в помощники. Сам он не жил в бараке. У него была хатка за территорией, может быть футов шесть на шесть, может быть восемь на восемь. Такой маленький барак, и он однажды сказал мне: “зайди ко мне поговорить”.
Нет, он не помнил меня с тех времен, когда мы жили в Литве, и мне никогда не доводилось ремонтировать ему башмаки.
У него была власть, и он сказал мне: “я хочу, чтобы ты помогал мне по дому, я хочу, чтобы ты здесь убирался”. И с тех пор я постоянно ходил на работу к нему вместо того, чтобы таскать мешки. И я работал у него до самого освобождения.
Но еще кое-что случилось, прежде, чем я стал работать на Бергмана (вот, вспомнил его фамилию). Я вам расскажу еще одну историю.
Вот что случилось. Один человек умер, а после него остались какие-то кусочки хлеба. Этот покойник был моим знакомым. Литваки все время держались вместе. Я говорю: “отнесу этот хлеб Бергману, потому что он здесь главный и по пище”. Может, там оставалось сто граммов этого хлеба.
И я отнес этот хлеб Бергману, а он мне и говорит: “хочешь съесть этот хлеб”? Я говорю, “да”.
Он говорит – “ну и ешь”. Вот. Он ко мне всегда хорошо относился.
И еще кое что.
Ты должен был выжить.
Однажды немец, большой такой нацист, пришел к Бергману и принес ему табака. Нет, не сигареты, а такие солидные табачные листья, растертые. Были такие даже не листья, а табачные черенки, протертые, как мелют кофе. Они были очень крепкие, без листьев. В России это называлось “махорка”. Ну, мелкие частички черенков.
Немцы занимались тем, что упаковывали этот второсортный табак, эту “махорку” в толстые конверты, а потом они доставали щепотку, скручивали в бумажку и курили.
Один немец принес Бергману много-много этой “махорки”. У него она часто была. А у меня-то нет. Так я иногда залезал в середину конверта, там, может быть, было граммов сто табака, брал щепотку и клал ее в жестянку вместе с бумажкой.
Снаружи, завидев немцев, я их спрашивал: “у меня есть табак, не хотите у меня купить”? “Сколько”, – спрашивали они.
И я говорил им обычно: “дайте мне два ломтя хлеба”.
И это для меня было большим бизнесом. А пакеты с табаком становились все меньше. Удивительно, чего только ты не сделаешь для того, чтобы выжить!
У Бергмана также водилось перетопленное масло. Я сам топил это масло, чтобы оно потом не таяло, и вкус не портился.
Я заметил, что Бергман оставлял такую специальную метку. И когда он уходил, я иногда добирался до топленого масла в банке, чуть-чуть мазал на хлеб, а потом оставлял такую же метку, как он. Масла он мне не давал, оставляя масло только себе.
Но, поскольку масла-то все же стало меньше, я на самое дно исхитрился налить немного воды, чтобы возместить уровень. И он думал, что я это масло не трогал.
Я часто смотрел за тем, что он делает. Однажды он оставил там радио, и пока я стирал его одежду и работал по дому, я мог слушать радио. Я ел мой хлеб, мазал его украденным маслом и потом грел и подливал горячую воду. Он ни разу меня не поймал. Это просто удивительно!
Но я никогда не брал слишком много. Ты должен был быть особенно осторожным, потому что ты должен был выжить!
И я выжил. Это стало задачей всей моей жизни. Никогда ты не говорил никому “эй, дай-ка я тебе помогу”. Нет, нет! Каждый был там сам за себя. И тебя не волновало, брат это твой или сестра, или еще кто-нибудь.
Когда ты вымотан и голоден, ты сходишь с ума, ты не нормален. Если ты не выживешь сегодня – это конец. И ни сестра, ни брат, никто не занимает твоих мыслей. Ты можешь быть врачом или адвокатом, когда ты голоден, никакой разницы – все, о чем ты способен думать – это еда, и твой мозг не работает в это время.
Однажды мы грузили цемент и складывали его в огромные высокие кучи. И там был отец и его двое сыновей. Они работали с нами. Цементные мешки упали с высоты и придавили одного сына. Он умер. Это была богатая семья из Каунаса, у них была лесопилка, они были из “высшего общества”. И отец даже не пролил слезинки по своему убитому сыну. Азинцкинас была его фамилия. Ты просто не думаешь. Действуешь полностью как животное.
Я даже не мог бы это объяснить как следует. Это совсем не похоже на ощущение, когда ты принимаешь, например, душ. И при этом ты можешь мыться ледяной водой. Даже когда они давали нам мыло – никаких чувств.
Они называли это мыло “риф” (rif). На немецком это значило, чистое мыло, сделанное из жира евреев.
Так они использовали тела в Освенциме, в Аушвице и варили из них мыло.
И выдавали его пленникам, заключенным, чтобы те принимали душ. И полотенце впридачу.
Я в Освенциме не был. Я говорю только о том, что слышал от тех, что чудом приехали из Освенцима. Там они давали людям мыло, а потом травили этих людей в газовых камерах. В любом случае, они нам давали это мыло, и я им пользовался. Тогда я не знал, откуда оно.
В Лагере номер один время от времени они и физически над нами издевались. Они привыкли избивать нас. Они били нас довольно регулярно. А когда мы шагали на работу, они насмехались над нами, издевались, как могли, обзывали нас. Даже не буду говорить. Но там был один парень “лагерь-фюрер”. Он командовал там. Его звали Иордан. Он-то был особенно противным, самым подлым и самым агрессивным.
А рядом с нашими бараками, в том же лагере были женские, но стояли они отдельно. Начальником там был назначен пленник-немец. Он тоже был заключенным, но ему доверили над нами надзирать.
Немцы однажды нашли его в постели с женщиной-лагерницей. Ей сначала отрезали волосы, а затем у били их обоих.
Она была венгерка, красивая девушка. Убили их потому, что он был немец, а она – еврейка. Он был обвинен в “унижении расы”, и они убили их обоих.
Я не знал, был ли он сам еврей. Никто не знает. Сам он говорил, что немец, а потом он умер там. И потом уже мы узнали, что он еврей, потому что он был обрезан, но до этого никто даже не догадывался.
Даже в концентрационном лагере ты стараешься, если можно, вести лучшую жизнь. Удивительно, но там было много “межэтнических” стычек, несмотря на то, что все они были евреи.
Немецкие евреи ненавидели польских, польские – венгерских, и все вместе почему-то ненавидели литовских евреев. Такая была обстановочка!
Да, а что происходило с мертвецами?
Ну, мертвецов там сбрасывали в огромную такую дыру. Когда я приехал туда со своей женой, я хотел вновь увидеть, где была эта яма.
Они брали специальный карандаш. И они писали номер и имя на их груди. Помните такие старые карандаши? Они еще писали нестирающимися лиловыми чернилами. Ты слюнявишь его и рисуешь номер.
У меня был номер 84424. У брата было на один номер больше.
Что значил этот номер? Это был номер Дахау. Это была как бы печать. Нацистская печать. В Дахау, в нашем отделении лагеря татуировок нам не делали. В Освенциме – да, делали татуировки.
Так что когда человек умирал, ему на груди писали номер, вот здесь, на теле.
Был такой парень у нас в бараке. Его имя было Сёма Каган. Немного заторможенный, отсталый. Его отец был аптекарь, и он работал с папой. И вот я возвращаюсь в барак и вижу там лежит его тело с лиловым номером. Он просто умер.
Они (мы) умирали как мухи. Утром, например, кто-нибудь запросто мог не проснуться, потому что, как мне позже объяснил доктор, у нас не было иммунитета. Совсем.
Сёме этому было может быть на два года побольше, чем мне. Его отец был в Каунасе известен очень, аптекарь, как я уже говорил. Я даже не помню, что с ним стало.
Так что на тот момент я был в лагере, наверное, самым младшим пленником. Нет, были, впрочем двое – еще младше. Мы пришли однажды, и капо нас увидел. Он отделил их, а потом отправил в Освенцим.
Как ни удивительно, кто-то из них выжил. Потому что позже в Лос-Анджелесе я встретился с одним. Он подошел ко мне и спросил: “ты из Каунаса”. Я говорю, “да”. И он мне – “я был в Лагере номер один, но они выслали меня в Освенцим. Я был там с детьми”. Похоже, некоторые все же выжили.
И это было уже в конце войны. Но далеко не всем повезло, но тот, кто выжил – говорил со мной.
Так что в Лагере номер один я остался самым младшим. Впрочем, был там один помладше, но он был гораздо выше меня. Его звали Рома Любецкий.
Уже после войны я поехал в Мехико. Я слышал, что там живет семья, которая прошла через концлагерь, а потом переселилась в Мексику, в столицу. И вот они рассказали мне, что их отец был капо. Но хорошим капо. У него было двое сыновей, один из которых и был моим знакомым в Дахау.
Я пришел к нему, но он не узнал меня. У меня сохранилась хорошая память, но других она подводит.
Говорю ему: “я Давид Каплан, я твой друг, помнишь, я ездил с тобой вместе как-то в Лагере номер один”. И смотрю – он меня не понимает. Просто не знает, о чем это я говорю. Я был разочарован.
Тогда я приехал в Мехико, чтобы собрать для немцев доказательства того, что он был в концентрационном лагере. И я их собрал, а потом он стал получать пенсию от германского правительства.
Позже я еще раз его навестил. Теперь он живет в Сан-Диего с двумя дочерьми. Но он даже не помнит, что я подписывал для него необходимые бумаги. Ничего не помнит. Я был удивлен.
Моя собственная невестка и его дочь подружились потом в Сан-Диего. Они там случайно встретились, а потом невестка говорит: “мой отец пережил Холокост. Он из Литвы”, а та ей – “мой тоже. Его фамилия Любецкий”.
А потом она приехала ко мне в Эль-Пасо, и рассказала, что встретила женщину, отец которой – Рома Любецкий. И я ей тогда сказал: “это был мой лучший друг”. Я имел в виду – в концлагере. Ты, конечно, не можешь быть настоящим другом там, помните всегда – каждый стоял сам за себя и старался выжить. Но мы же знали друг-друга! Его брат и его отец тоже были там! Это была наша элита в Литве. Высшее общество. Даже дома, между собой вместо идиша они разговаривали по-русски.
Я даже ему тогда завидовал, потому что у него такой замечательный отец. У меня-то такого не было. Моего отца вообще рядом не было, да и потом мы все равно не были такой уж элитой. Отец вообще был сиротой без образования, и это было видно. И алкоголик к тому же.
Но потрясающе, этот Любецкий меня не узнал!
Мы сходили на ужин в Сан-Диего, в Дельмар. Он был такой полный, наверное весил больше трехсот фунтов. И я пытался с ним поговорить о том, что он вот младше меня (но я нормально вешу). И о том, что он выжил тоже, выжил в концентрационном лагере.
А позже они послали меня на этот марш. Марш Смерти.
Он остался внутри, и когда их освободили, его переслали в монастырь Сан Отильде, недалеко от Ландсберга.
После войны еврейские музыканты собрались в ансамбль и назвали себя “Оркестр Сан Отильде”. Они играли в освобожденных лагерях. А он оставался в этом месте, в Сан Отильде, ну может быть, у него была потом совсем другая, уже послевоенная история.
И были там литовцы. Через месяца три после освобождения все переоделись и сменили свои арестантские полосатые робы на нормальную цивильную одежду, и ты сразу мог заметить разницу в их социальном положении. Плотники носили плотницкую одежду, маляры одевались как маляры, а профессионалы повыше рангом одели костюмы. И прямо сразу жизнь, правда медленно, стала нормализоваться. Было там и несколько немецких цыган, в этом лагере.
Давайте вернемся снова чуть назад. Немцы так и не знали, сколько мне на самом деле лет. Их не интересовало мое имя, а возраст определялся лишь тем, как ты выглядишь.
И еще – номер. Номер в таком треугольничке. Мой треугольник был красный. Красный – значит политический заключенный. Я был политическим только потому, что я еврей.
Я обязан был носить эту полосатую одежду, куртку и штаны. И еще помню шапку. Да, была и шапка. И деревянные башмаки. Никакого нижнего белья. Никакого.
В лагере уже не нужно было носить желтых звезд. Никаких звезд. Просто полосатые робы.
Им было без разницы, почему ты политический. Они с нами не разговаривали. Вообще не говорили, я имею в виду нацистов.
Вот когда однажды нас повели валить деревья, туда пришли фермеры, крестьяне из соседних деревень, и вот они спрашивали “за что ты здесь сидишь”? “За то, что я еврей”, – говорил я им.
– Да ладно, о чем ты говоришь”? – удивлялись крестьяне.
– Ну да, потому что я еврей.
– Мы думали, всех евреев выслали в Палестину! – заявляли мне фермеры, которых пустили на вырубку, чтобы они могли собрать для себя оставшиеся ветки, щепки.
Понимаете, они лгали немцам. Может быть не всем – но этим врали.
Как вы думаете, что они принесли, когда пришли в следующий раз? Буханку хлеба. И еще – сандвичи с беконом. Самое вкусное, что я ел в жизни! И я их после этого никогда не видел.
Они приходили несколько раз и приводили с собой животных – вола и корову, которых впрягали в это, все время забываю это слово – в телегу.
Они приходили, и я запомнил, что у большинства этих немцев были такие большие кадыки. Я вспоминаю, как же потрясающе они выглядели! И мне было так плохо. Я думал, если меня освободят, я никогда больше не хотел бы быть евреем!
Кстати, вспомнил еще одну историю об этом.
Вспомнил про этот проклятый красный треугольник. Все евреи носили, как политические, красный треугольник с номером. Вот у гомосексуалистов был не розовый, нет, такой лиловый, фиолетовый по-моему. Не помню, были ли там розовые, но я тогда и не знал, кто это такие – гомосексуалисты. Я вообще мало что знал о сексе, но возраст и гормоны, гормоны начинали играть, но когда ты не знаешь, что происходит с тобой, тебе становится страшновато. Когда ты юн, ты боишься. Желание приходит, но ты не понимаешь, что это такое…
Давайте попытаемся вспомнить перевод, переходный период из Санзая в Лагерь номер один.
Когда русская армия стала приближаться, когда они уже бомбили Литву, немцы решили вывезти нас всех в Германию. Они сами бежали в Германию и прихватили нас. Я помню, как они вели нас строем через железный мост, через железнодорожную станцию. Паре ребят удалось тогда сбежать, и я встречался с одним из них после войны. А нас сажали в вагоны для скота. Было это в Каунасе, на каунасской станции, не на самом вокзале, а там, где я раньше жил, недалеко от монастыря кармелиток. Нами заполняли вагоны битком – один к одному, человек по сорок, а то и больше. Сидеть там было невозможно, только стоять. В вагон ставилось два ведра – одно из них для жидких отходов, а другое – для экскрементов. А там были вперемешку и мужчины и женщины.
И от лагеря до этой станции ходу было часа четыре. И мои брат, сестра и мать – все тогда еще были живы и они были со мной.
И о чем мы разговаривали? Мы были до ужаса напуганы. Мы не знали, что делать, были абсолютно смущены. И это ведь нормально, нормально для человеческой природы.
Ты даже сначала не видишь, насколько все может быть ужасно. Начинается все с маленькой проблемки, только с маленькой. А потом так медленно, медленно – они нарастают, но ты не порой не понимаешь разницы, не чувствуешь по-настоящему этого ухудшения. И вот, не сумел ты сообразить, как от точки А дела идут к ужасной точке Б.
Вот эти перемены от А до Б, они так медленны, что ты ничего не понимаешь, в какую беду ты попал. И вот уже эта точка Б, на станции, и там немецкая охрана, и нас грузят в вагоны, орут на нас, у них дубинки, они обзывают нас, бьют нас и запихивают, запихивают в эти вагоны.
Интересно, что у нас с собой были какие-то сумки, какой-то скарб… Но ничего ценного. Ничего не осталось. Понимаете, когда они закрывали нас в гетто, приказали взять с собой все ценности, все семейные украшения, ювелирные изделия, золото. А если не возьмете, бы убьем вас, ваших детей, вашего брата и сестру, ваших соседей. И все тащили, напуганные. Но я помню, что очень, очень немногие что-то ухитрились припрятать. Самые, наверное, умные.
Когда нас перевозили в этих вагонах, я не помню уже, но какой-то инстинкт мне подсказывает, что я то ли сидел, то ли стоял, но рядом с мамой. Я, права, даже не помню, о чем я с ней разговаривал всю дорогу. Конечно, мы говорили, но о чем, не могу припомнить уже…
Все было так быстро. Немцы нас все время гнали, все время подгоняли. У них были палки, дубинки, они обращались с нами очень грубо, колотили, и гнали, гнали, гнали. А на этой станции их, немцев, стояло, наверное, двести. И все были со специальным оружием. Из раньше называли эсэсовцы. Одеты они были не в черное а в зеленое. Но там, среди СС были не только немцы. Литовцы тоже служили у них. Литовцы были самыми лучшими их союзниками. Они помогали им убивать евреев. Они помогали создавать концлагеря.
Они загоняли нас в вагоны, а там даже ступеней не было, не было сходней. Один затягивал в вагон другого. Старики большей частью были уже убиты. Моей маме тогда было сорок шесть. Для меня она выглядела старой, потому что я был маленьким мальчиком, для которого и тридцатилетний мужчина – старик. А моя мама была на самом деле еще молода. Она всегда была полной, а вот в концлагере весила уже где-то 105 фунтов или около того. Потеряла вес. И она залезла в вагон, как и все. И мы ждали в вагонах весь день. А ночью состав тронулся.
Сидеть в этом вагоне было сложно. Знаете ли, даже если и было такое место. Но понимаете, кто-то мочился здесь же, а кому-то надо было сходить и по-большому…
И сначала поезд все стоял и стоял, а ночью вдруг закрыли все двери и мы поехали. Жаль, но я не помню, о чем мы разговаривали. Я только помню, что ты надеешься на что-то, а потом, потихоньку, помаленьку, эти надежды куда-то понемного исчезают, утекают. А ты остаешься с этим чувством постоянного страха. И боишься все время. Мы прошли через столько бед, но боялись и боялись постоянно.
Я знаю, что моя мама верила в меня всегда. И после войны уже мне говорили, что она всем рассказывала, что если кто и выживет, то это буду я. С другой стороны, она всегда могла на меня рассчитывать. Я всегда добивался того, чего хотел. Даже в этой атмосфере жуткого страха. Правда, и хотелось совсем другого, совсем малого, а иногда, даже чаще всего – просто выжить. Остаться в живых. И все.
Когда поезд тронулся, некоторые стали выпрыгивать из окон. Я не знаю, кому удалось выжить. Они прыгали на ходу, когда состав плелся со скоростью 30 км/ч или когда летел вперед, выжимая все 70-80.
Но я тогда подумал, я не могу сделать это. Я не могу оставить свою маму, своего брата. А они пролезали, протискивались, как змеи и прыгали из окон.
И еще помню странный случай. Среди нас ходил один, не очень похожий на еврея. И у него в зубах была зажата трубка. Немцы убили его брата, так он вот ходил, ходил и так, кажется и вышел из толпы каким-то образом. После войны я его встречал в Берлине.
Так вот сначала нас гнали на станцию, потом затолкали в вагоны, а теперь везли. Люди начали выпрыгивать из окон минут через десять после того, как поезд тронулся.
Я помню, как мы проезжали литовскую границу и стало быть, были уже в Германии. На границе была тьма военных из СС. Помню даже немного по ходу вагона удалось посмотреть на море. Балтика.
И утром я подумал, что мы приехали. Нас не кормили целый день, а когда мы приехали, то всем дали сходить в туалет. По одному. Наверное, они думали, что мы сбежим. Куда? Даже в этом ужасе выглядело это смешно.
И вот мы приехали в Штуттхоф. И здесь нас выпустили из вагонов. Снова принялись на нас орать и гнать, теперь уже из поезда. И немедленно отделили мужчин от женщин. Мужчины думали, что женщин повели убивать, а женщины – что будут убивать мужчин. Многие плакали. Никто нам, естественно, ничего не говорил. Никто и не знал, куда кого увозят и зачем.
И вот мой брат и я попали в Ландсберг, причем везли нас в том же вагоне. А потом нас приняли в Дахау. Вот здесь, когда мы приехали, нам дали немного супа и кусочек хлеба.
Помните, я рассказывал про эти круглые строения, которые они называли “Пилзен” (грибы)? Это было там. В Лагере номер Один. А на следующий день нас сразу погнали на те самые цементные работы. На строительство какое-то. Причем, мне кажется, что та строительная компания существует до сих пор.
А мою маму и сестру вместе с другими женщинами увезли в другое место. Это был Майданек, а может, Треблинка. Я не помню точно и не хочу сбиваться на неточности.
Кто-то мне позже рассказал, что мама была в Треблинке. И там она умерла от тифа. Сначала заболела сестра, и мама ухаживала за ней, как могла. Обе они в концов заболели и умерли вместе. Откуда я это знаю? Это уже совершенно другая история.
Когда меня уже освободили, я решил вернуться и разыскать маму. И я боялся этой встречи, потому что не смог сберечь своего брата. Я думал, “что я ей скажу”? Потом я поехал в Берлин, оттуда – в Польшу, где я и встретил эту женщину. И в этот момент для меня снова все изменилось. Женщина была из Литвы. И я спросил ее, не знает ли она Луну Каплан (так звали мою маму).
“Да, она здесь”, – отвечает. – “Я ее приведу, где встретимся”? Я говорю, “здесь”!! И она вернулась с женщиной по имени Луна Каплан, но это не была моя мать. Она мне сказала: “ты ищешь здесь свою мать, а я – своего сына”. Но это была не она, не мама.
Позже я узнал, что выжила жена двоюродного брата моей мамы. И вот она-то мне и рассказала о том, что мама и сестра умерли от тифа. Она сказала, что была в одном с ними лагере, и что обе они умерли.
Майданек или Треблинка, неважно. Женщины умирали там, как мухи, еврейские женщины. Это происходит, когда ты подхватываешь легкую простуду. А никакой защиты от болезни у тебя нет. И болезнь становится все серьезней. Люди мерли как насекомые.
Так вот, на следующий день после приезда в Дахау нас погнали на работу. Разделили на группы и приказали работать с цементом. Им и расстреливать никого не надо было. Вместо этого нас морили работой, битьем и голодом.
Как я уже говорил, когда голоден, мозги перестают работать. То есть работают в одном направлении. Разум не работает больше. Ты не моешь рук, не умываешь лица. Все, что ты хочешь – это еда. Мораль твоя становится низкой. Нет никакой морали. Больше всего хочется хлеба. Иногда закрадывалась мысль: “когда меня освободят, я съем огромный кусок хлеба с американским сыром и помидором”. Все четыре года я думал об этом хлебе с американским сыром (его все зовут голландским) и помидором сверху. И все четыре года я представлял себе, как ем этот хлеб после того, как меня освободят.
И я всегда мечтал об этом сандвиче. И знаете, я до сих пор люблю его. Знаете, когда что-то запало тебе в душу…
Когда мы уже были в этом концлагере в Германии, в Дахау, они решили ликвидировать лагерь, потому что слишком близко подошли американцы. Они нам сказали, что отправят нас в Швейцарию в обмен на пленных немцев. Они нам врали, но у нас все равно не было никакого выбора. И мы пошли. И это был Марш смерти.
Когда лагерь решили ликвидировать, один немец принес Бергманну две банки концентрированного молока и две – с мясом. И я спросил – а почему не мне? И немец принес четыре банки того же цвета, но в них был консервированный горох. О том, что внутри, говорила только специальная буква. И я подменил буквы. У Бергманна оказались четыре банки с горохом. Но мне не стыдно, и не было стыдно, поскольку я знал – я все равно умру скоро.
Жив был мой кузен, и я дал ему попробовать концентрированного молока. А у него был хлеб. И он никогда не мог подумать, что самое вкусное в мире – это хлеб с консервированным молоком! А я не знал, через сколько лет он снова сможет попробовать такое блюдо. Знаете же, когда голоден, любая еда кажется тебе самой вкусной.
Этот кузен, которого практически усыновила моя мать, он жил в лагере. Прошел тот же путь, что и я. Но знаете, в лагере, я уже говорил, каждый за себя, каждый – по отдельности. Но так сложилось, что мы были вместе в гетто, вместе в Германии и вместе – в Марше смерти. И нас обоих освободили.
Он был на 14 лет старше меня. Я его видел в гетто, а потом – в Дахау. Ему было чуть легче, чем мне, поскольку он был шикарный портной. Он шил для командиров СС, и они относились к нему получше. Он дожил до 90 или около того, но пару лет назад ушел из жизни.
Звали его Ной Фрейзингер, а он потом сменил имя на Натан Фрайс. Он жил и умер в Лос-Анджелесе.
На этих цементных работах люди умирали пачками. Я совсем забыл рассказать: там была групп узников из Польши, еще с 1939 года. Они были очень слабенькие. Все умерли, за исключением пары человек. И все, кто умер в Дахау, были похоронены в Дахау. Специально для этого мы вырыли огромную яму, куда сбрасывали тела умерших.
Крематория в Дахау не было. Он был не нужен. Туда же не привозили людей на уничтожение. Умер – тебя везли к этой яме. Перед тем, как сбросить тела, они заставляли кого-то из пленников вырывать у покойников золотые зубы и отдавать немцам.
Дахау перед тем, как туда стали свозить уже в конце евреев, был политической тюрьмой Германии.
В одно недоброе утро заболел мой брат. У него распухли ноги, и он не мог выйти на работу. Я плакал вместе с ним, но ничем не мог ему помочь. В конце концов его поместили в другой концлагерь. У него определили эндокардит – это такая инфекционная болезнь сердца. Когда я был в гетто, то работал и прирабатывал, я покупал ему тогда лекарства. Даже сейчас помню – “пронтозил” и другие. А теперь я ничего не мог ему предложить, а брату становилось все хуже и хуже.
Когда я пришел после работы, я нашел его избитым. А однажды его куда-то перевели, и я с тех пор уже не знал, где он и что с ним.
С тех пор я не видел его и не знаю точно, что с ним случилось. Я уже рассказывал, как унижает голодная жизнь в неволе. Может быть в этот момент я что-то пропустил, не помог ему. Но я постарался забыть о том, что с ним могло бы быть. Я искал мать, но боялся ее найти, потому что она могла спросить меня о нем, а я не знал, что ответить. Я не знаю, что произошло конкретно, но всю жизнь корю себя, хотя понимаю, что, по большому счету, не я виноват в том, что его нет.
У меня не было ничего, что я бы мог ему дать, но я также помню, как один человек умирал, а после него осталась порция хлеба, и мне удалось забрать ее первым. И я съел этот кусок хлеба, хотя этот человек был еще жив. И мой кузен Натан сказал мне тогда: “ты не должен этого делать”.
Мы были в Дахау, наверное, до 22 апреля, когда нас выгнали на “Марш смерти”. Тогда эсэсовцы объявили нам, что меняют на немецких пленных и отправляют нас в Швейцарию.
“Будете идти по ночам”, – говорили нам, – “а днем будете спать, чтобы вас не заметила американская авиация и не перестреляла. Берите свои пожитки (а это было одно одеяло), и через час мы выступаем”.
Когда об этом говорил комендант, все уже знали, что он врет.
Впереди нас ждал долгий марш. Настоящий марш смерти. Сначала нас погнали в главный лагерь Дахау. Через пару дней мы ночью пришли туда. Ночью мы видели американские самолеты над Дахау. Мне кажется, они знали, что там находятся концлагеря. Перед тем, когда я был в Ландсберге, американские летчики принимали нас за немецких солдат и стреляли по нам. Много народу было убито.
И снова об этом марше. Многие из тех, кто был обессилен работой, остались. Они были слишком слабы, чтобы куда-то идти. Мне кажется, немцы собирались убить их всех. Но многие из оставшихся каким-то образом выжили.
Я боялся остаться, потому что боялся, что на придут и всех перестреляют, потому что это уже случилось в Литве, в лагере Слаботка. Я испугался, что они проделают то же и здесь, поэтому я пошел.
Я чувствовал, что могу пойти, потому что я работал на Бергмана, а не таскал этот проклятый цемент. Мне повезло, как я уже говорил, что немцы назначили меня к Бергману. Я там мог есть мясо. И оставил ему горох. И это, я думаю, спасло мне в итоге жизнь. Бергман был среди нас. Он всегда питался лучше, и даже был в первых рядах, чем-то командовал. И он шел вместе с десятью тысячами других. А в живых осталось всего 800. Но Бергман был жив. Он помогал нам выживать. А они называли это “походом в Швейцарию”.Я шел вместе со своим кузеном, которого, как сына, воспитывала моя мама. Я уже говорил о брошенных детях, за которыми ухаживала моя мать. Его братья все погибли. Он мне как сводный брат, и мы часто перезваниваемся. Ему уже за девяносто, и он болен, но пару раз в месяц мы звоним друг другу.
Мы шли, американские самолеты летали над нами, но ни в кого не стреляли.
Тогда я не знал то, что знаю сейчас. Мы были так голодны, но не знали, что поесть. А ведь в полях много насекомых, которых, оказывается, можно употреблять в пищу. Все, что я смог попробовать – это улитки. Я вскрыл одну и даже положил в рот, но проглотить не мог. Я думал, меня стошнит.
На самом деле в путь тогда отправилось около 20 тысяч евреев, русских, поляков и некоторые немецкие заключенные шли с нами. Всего 800 остались живы.
30 апреля пошел снег, который продолжался и 1 и 2 мая, и нас накрыло, а все, что у нас было с собой – это теперь уже влажные одеяла.
Марш смерти из Дахау. Конец апреля.
Однажды ночью, не зная того, я отстал от основной группы и наткнулся на отряд эсэсовцев на велосипедах. Они схватили меня и стали спрашивать, что это я тут делаю. Тогда я ответил, что отбился по ошибке от группы. Один из них сказал – застрелите его. У него был на правой стороне пистолет в такой коричневой кобуре из свиной шкуры. Он вытянул его, но я попытался спрятаться в группе этих немцев, так что он не стал стрелять.
Они принялись бить меня, толкать между велосипедами, но я даже не чувствовал боли, настолько был напуган. Они пинали и лупили меня, но ведь стрелять не стали и не убили меня. Каким-то образом я сбежал от них, бежал зигзагами и в конце концов наткнулся на “свой” марш.
Шел снег. Наци оставили нас между двумя холмами, на которых у них были поставлены пулеметы. Когда мы подошли, пулеметы были готовы к стрельбе. Они все заранее спланировали. Но когда мы уже были готовы умереть, после снежной ночи, когда я высунул из-под одеяла голову, никаких солдат уже не было. Все куда-то разбежались.
Это было еще в Германии. Позже я понял, что они хотели уничтожить нас, но все ушли. Они убежали. Они бросили нас без еды, без ничего. Но не расстреляли, а разбежались по своим семьям.
И тут я увидел павшую лошадь. У меня был маленький нож, который я смастерил из жестяной банки. Я отрезал кусок от зада коняги и поджарил его на огне, который остался от кого-то. А потом я растопил снег и сделал себе суп. Самый вкусный в мире суп. Никогда его не забуду. Я уже говорил, когда ты голоден, все вкусно. Даже сейчас, через 60 с лишним лет я вспоминаю, какой вкусный это был суп.
К нам подъехал маленький серый немецкий “фольксваген”. Оттуда вылез большой, большой дядька в форме и заявил нам “я из Вермахта. Я не из СС. Послушайте. Американцы – в часе ходьбы отсюда. Не задавайте вопросов. Спрячьтесь в сараях”.
Мы только заметили фермерский домик, и я и еще несколько человек пошли в сарай рядом с ним. И там мы нашли картошку, которую стали есть сырой. Ох, и наелись мы этой картошки!
Примерно через час-полтора, как говорил немец, появились американские танки. И они остановились, увидя нас. И я впервые увидел черных солдат. Мы выбежали из сарая и пошли навстречу. Они повылезали из танков и плакали, видя нас в нашем состоянии, давали нам шоколад, конфеты, сигареты.
Не могли поверить, что немецкие нацисты были так жестоки. Многим стало плохо от еды, а некоторые даже умерли.
Они дали нам конфеты, а я им сказал: “я же ничего не сделал. За что конфеты”? Люди обнимались, целовались друг с другом. А я был таким слабым. Я сказал сам себе: “вот теперь я начинаю новую жизнь. Я хочу учиться. Я хочу заняться чем-то другим. Для себя”. И они забрали меня в больницу.
Марш наш продолжался с 22 апреля по 2 мая. Десять дней. Восемьсот человек из двадцати тысяч.
Больница, куда меня привезли, была не в Дахау, а в Бад Тельце. Немецкий военный госпиталь. Нас туда отвезли на автобусах и накормили. Но некоторые снова не сдержались, переели, и несколько человек погибли от этого. Я старался есть очень медленно. Даже не знаю почему. Я был в каком-то оцепенении. Не знал, что делать. А потом я увидел немцев, которые были убиты. И мне стало их жаль. Они лежали там Мне было жаль их. Почему? Сам не знаю. И вот я решил так – простить всех и продолжать жить.
Я думал, чего мне хочется, что я буду делать. Я был в шоке, я был смущен, я старался спланировать что-то.
А потом приехали автобусы. Я уже говорил, нас отвезли в госпиталь.
Я больше не боялся, что меня убьют, но не мог расслабиться никак. Единственное, что я знал – что мне уже не предстоит умереть. Когда меня взвесили, оказалось, что во мне что-то около семидесяти фунтов. Я был болен, все было ужасно. Но я знал, что меня уже не убьют.
Я выздоровел недели через две, по-моему. А потом нас послали в Мюнхен, и я был в бывшем солдатском лагере, в котором разместили беженцев. И там мы все и оставались еще некоторое время.
*****
Давид Каплан после выписки из больницы получил подтверждение о смерти своих матери, сестры и брата. Через некоторое время он вернулся в Ландсберг, где с помощью францисканских монахов получил образование, как специалист по электро-механике.
Позже Давид обратился к властям США с просьбой об иммиграции, и приехал в Штаты с помощью агентства ХИАС.
В 1949 году Давид Каплан поселился в Эль Пасо (штат Техас). Ему был тогда 21 год. Позже он не раз приезжал в Мексико, где в конце концов нашел свою будущую супругу. Во время Корейской войны Каплан был призван в армию и служил в Форт-Блисс. После войны он, его жена Тита и их сын некоторое время жили в Мексике, вернувшись в итоге в Эль Пасо уже с тремя детьми и четвертым “на подходе”. Давид освоил специальность программиста, а позже стал успешным бизнесменом, специалистом в области финансирования и ипотеки.



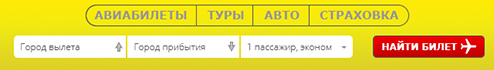


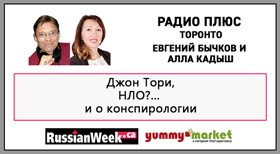
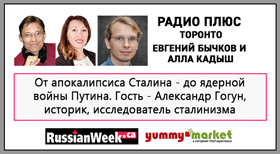







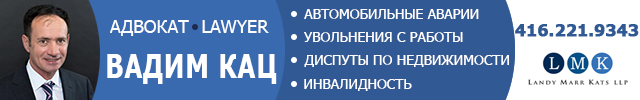
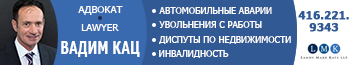
А что означает forgive? Это слово можно обыграть по-разному:
https://preply.com/question/chto-oznachaet-forgive
Полезно прочесть материал прежде, чем задавать вопросы.
Простить – не синоним “забыть” в этом случае. Это – осознание того, что все немцы разные.
Кстати, Давид несколько раз говорил об этом, когда мы с ним беседовали.
“Я не могу держать в себе зло, – сказал он мне как-то, – Потому что после всех ужасов я прожил счастливую долгую жизнь. Потому что встретил любимую женщину, и у меня замечательные дети и внуки. Они мне платят деньги, которые мне давно уже не нужны, и я отдаю их на благотворительность. Немцы были все разные”.
Он ничего не забыл, и если бы Вы прочли коротенькую книжку, то узнали бы, что он со своей супругой побывал в Каунасе и все ей показал и рассказал.
Скоро, я надеюсь, мой друг приедет на несколько дней в Торонто.