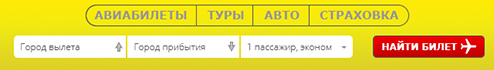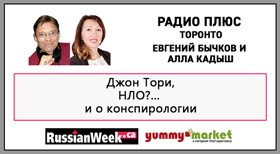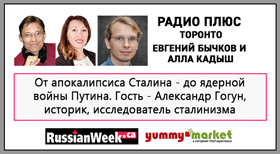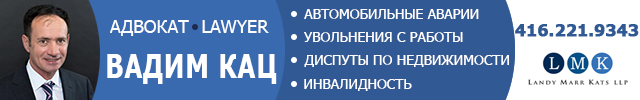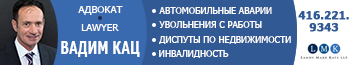Внешне Писо, как я уже говорила, ничем особенным не отличалась, oднако поклонников у нее было множество. Все дворовые коты усиленно ухаживали за ней. Но она отдавала предпочтение приходившему с улицы рыжему коту, весьма развязному, с желтыми глазами. Он часто ошивался вo дворе и ел из мисок, предназначенных дворовым котам, которых соседи подкармливали, думая, что они ловят у них в подвале мышей. В последние дни перед родами рыжий почти не отходил от Писо, за что я его зауважала, хотя и не очень-то ему симпатизировала, испытывая нечто похожее на неприязнь тещи к зятю. Он особенно вырос в моих глазах, когда помог Писо, бывшей на сносях, войти в дом, чему я случайно оказалась свидетельницей. Он с силой толкнул дверь своим жилистым плечом, пропустив Писо, а сам остался в коридоре. Это было в день родов, через час она родила у нас на диване, в столовой.
Котят было трое: два рыжих, в папашу, третий – черно-белый, похожий на одного из дворовых котов (такое, говорят, у кошек случается). Видно, влюбчивая Писо и его не обходила вниманием. А рыжий кот, будучи галантным кавалером, оказался неважным отцом и вскоре исчез, предоставив Писо заботу о детях. Зато Писо была прекрасной мамашей. Она заботилась о них беспрестанно, перетаскивая из одного укромного места в другое, кормила, ласкала, мыла, отлучаясь ненадолго, чтобы поесть самой и привести себя в порядок.
А я кормила, ласкала и мыла своих троих. Мыла, однако, не так часто, как Писо (имеется в виду купание), завидуя простоте ее метода: облизала со всех сторон – и готово. Купание в доме было сложнейшей процедурой. В баню пойти было еще сложнее. Только одна или две функционировали на весь город. Очередь занимали с вечера и стояли всю ночь. Мы однажды пошли на такое – до сих пор помню.
Простояв часов десять попеременно и добыв номер, мы с мужем забрали детей и пошли в баню. Наша кабина была занята, пришлось ждать, пока освободится. Таким образом, вместо часа у нас оставалось минут сорок. Я в темпе искупала девочек и только взялась за сына, как в дверь начали колотить и кричать, чтобы мы освободили номер немедленно, так как наше время истекло. Колотили так бешено, что нам казалось, еще немного – и толпа, взломав дверь, вломится в номер. Оценив ситуацию, я поняла, что нам с мужем уже не искупаться. Быстро намылив голову сыну, я крикнула мужу, чтобы втолковал тем, что за дверью, что и мы в свою очередь ждали, пока освободится номер, и не вопили, как сумасшедшие. Муж встал у двери и попробовал их урезонить, чем вызвал в ответ еще большую ярость. В особенности со стороны женщин, как я поняла, представительниц трех поколений одной семьи (дочка, мать и бабушка), которые орали, что он идиот, и они убьют нас, если мы сейчас же не выйдем.
Пока в таком плане велись переговоры, я быстро домыла сына и сказала мужу, чтобы приготовился к выходу. Но тут вдруг муж, ударив кулаком в дверь, заявил, что не уйдет из бани, не помывшись, пусть хоть пожар начнется или землетрясение, и, не обращая внимания на проклятия, посылаемые за дверью, содрал с себя все, оставшись в трусах, и в бешеном темпе обмылся, пока я быстро подсушивала детям головы. Наконец все были готовы, и муж, идущий первым на случай, если придется пустить в ход кулаки, открыл дверь.
К нашему великому облегчению никакой расправы не последовало, никто не собирался тратить на нас ни секунды драгоценного времени. Нас просто чуть не смело толпой, ворвавшейся в номер. Я, вся распаренная после бурных действий, с немытыми, слипшимися волосами, надела шапку, и мы пошли домой.
Дома сидела Писо, как всегда чистенькая, и умывалась. Ах, мне бы так! – вздохнула я, притащив из коридора таз и включив керосинки, а муж принес со двора воду – тихий ужас! Зато утром на пятиминутке в больнице, где я работала бактериологом, я сидела мытая, ловя на себе оценивающие взгляды коллег, ибо ново-искупавшаяся личность сразу бросалась в глаза на фоне давно-не-мывшихся своим просветленным лицом и распушившимися волосами.
Так все и жили, люди с высшим образованием и без него, имущие и неимущие, известные и неизвестные целых четыре года. Особенно трудным был первый, потом приноровились. Врачи ходили по палатам в пальто, шапках, со свечами в руках. Больные, мобилизовав защитные силы, боролись с холодом и дефицитом лекарств, стараясь поскорее убраться домой. В школах сидели дети в пальто, шапках и варежках… Но закрылись заводы. Городской транспорт почти не действовал. Однако функционировали операционные, куда подавался ток из аварийных движков, работавших на солярке. Оттуда же поступало электричество в лаборатории, где на пару часов включались необходимые приборы. Термостат в баклаборатории работал почти круглосуточно.
Однажды к нам в лабораторию пришла невысокая пожилая женщина в старой каракулевой шубе, неся за пазухой что-то, укутанное в теплый платок. Это была Офелия Николаевна Дорунц, по всеобщему признанию, лучший бактериолог в Армении, хотя и не имевшая громких чинов (и не стремившаяся к ним). А в платке у нее были пробирки с эталонными штаммами бактерий. Дело в том, что в институте усовершенствования врачей, где она работала, были отключены все приборы и бактериям грозила гибель. Мы поместили пробирки в термостат, и она сообщила нам, что до этого хранила их у себя дома, рядом с керосинкой, в спальне…
На четвертый год “свет забрезжил в конце тоннеля”. Не “левый”, а законный. Сначала его давали на несколько часов, потом и на весь день, так как снова был пущен в ход атомный реактор. Дети подросли, оставаться в бабушкином доме без ванны и туалета было уже невозможно. И мы переехали к свекрови.
Мы долго думали, брать с собой Писо или нет. Конечно, все обожали Писо и не мыслили жизни без нее. Но невозможно было представить Писо в квартире на пятом этаже, где она, привыкшая к свободе, была бы вынуждена сидеть взаперти, не имея возможности уходить и приходить, когда вздумается, встречаться с котами, растить детей, ловить ворон… Все, что составляло сущность ее кошачьей жизни, стало бы невозможным в доме, где жила свекровь, которая, к тому же, не выносила кошек. И мы переехали без Писо…
Мы часто навещали ее, принося что-нибудь из еды, звали ее, и она неслась к нам со всех ног. А мы, радуясь ей, как радуются родной душе, гладили ее и говорили, как по ней соскучились. Она, все понимая, терлась головой о наши руки, зажмурив глаза. Потом взлетала по лестнице на балкон и вставала у двери, ожидая, пока откроем. Войдя в дом, она сперва обходила его, шла к печке, дивану, буфету, касаясь их выгнутой спинкой, потом начинала есть, время от времени поглядывая на нас, как бы удостовериваясь, что мы тут и не собираемся пока уходить…
Как-то Писо прибежала к нам с молодым котенком, своим сыном, не отстававшим от нее ни на шаг, однако в дом его не пустила, фыркнув на него и оставив ждать в коридоре. Видно сочла бестактным навязывать нам его присутствие. Потом, быстро обежав комнаты, вернулась к нему и стала лизать в нос и уши, после чего снова зашла в дом, и наше свидание продолжилось как обычно. Но кусочек куриной ножки она унесла в зубах для сына…
Потом мы уехали в Канаду, а Писо осталась жить там же, у дома. Мы справлялись о ней у соседей, звоня им изТоронто. Они говорили, что Писо часто появляется во дворе и с ней все в порядке. Через несколько лет дом снесли, начали строить на его месте высотку. До сих пор, кажется, строят. А Писо пропала. С тех пор, как не стало дома, ее больше не видели.
В прошлом году я поехала в Ереван. Пошла к тому месту, где был бабушкин дом, а теперь стояло огромное недостроенное здание, и ничего не осталось: ни двора с тутовыми деревьями, ни соседних домишек, ни даже переулка, который вел к дому… Я стала звать Писо. Вероятность ее появления по всем соображениям равнялась нулю. Я звала ее, надеясь на чудо…
Мне и раньше случалось ждать ее подолгу, когда она бродила по окрестным дворам. Но до нее доходил мой зов, и не было случая, чтобы она не примчалась ко мне, как бы далеко ни заходила… Я продолжала звать ее, пока не охрипла… Где ты, Писо?