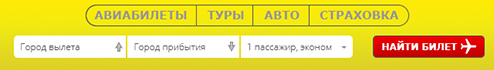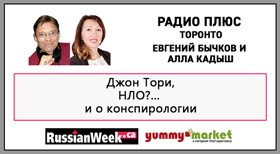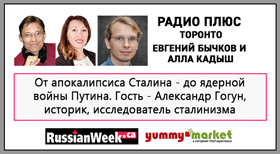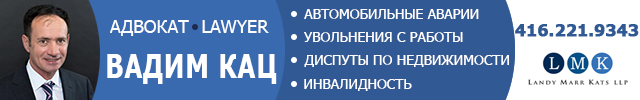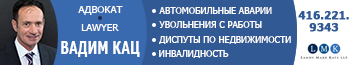папиной памяти
Ох как любил праотец Иаков младшего сына своего, разгильдяя Иосифа. Так любил, что у старших братьев обожаемого родителем “мизиникера” аж поджилки тряслись от такой несправедливости. Мало того, что смотрел Иаков сквозь пальцы на все иосифовы шалости и, в отличие от прочих домочадцев, не нагружал любимчика животноводческими обязанностями, так ещё и справил ему разноцветный плащ необычайной красоты. Стало быть, всё семейство – в грубых, козлятиной пропахших обносках, а этот хлыщ – в драгоценном габардине ценою в полстада овец.
Вот и меня папа любил. Баловал незаслуженно, вопреки разным там педагогическим теориям. Не закалял, обливая ледяной водой, не приучал к труду, не выковывал характер тяжёлой отцовской десницей. Жалел папа драгоценное нам с ним отпущенное время на драние ушей и на обиженное “неразговаривание”. Подозревал отец, что закончится когда-нибудь всё вечной разлукой. Он просто смотрел на меня с любовью (как не будет больше никто на меня смотреть) и тихо себе надеялся, что “бог даст” и выйдет из меня “что-нибудь особенное”. А вышло что?
Вопрос этот, во избежание нелицеприятного на него ответа, лучше ставить риторически. Потому как вышла стремительно за запятую нулями убегающая единичка. Тоненькая ниточка… При этом даже не в интернациональном плане, но и в аспекте малого нашего Народа. Не из-за кокетства признаюсь в этом (вовсе не прискорбном) факте. Чего уж тут, ведь я точно такой же “никто”, как и каждый из нас по отдельности, включая умников, что, наслушавшись психологических тренингов, мнят себя “знаковыми фигурами”, “генофондом нации” или, на худой конец, “ай да сукиными сынами”. Генофонд – термин зоологический, мне, художнику (ну ладно – ремесленнику), по душе менее коровья терминология. …Пусть будет: “палитра”. И пусть будет так: “из нас – не ярко, лишь на десятую долю тона по-разному окрашенных ниточек – мастерит Ткач диковинное полотно. Картину Мира, Плащ Иосифа”.
* * *
…Весна в Грозном ранняя. Ведь он, хоть и не “всесоюзная здравница”, но, по российским понятиям, – тёплые края. Вот и мои, купившись по простоте душевной на алычевую романтику, переехали дослуживать из пасторального Южного Сахалина в кипящий страстями Северный Кавказ. Год, как переехали, а всё никак не привыкнут к местным реалиям. …Старуха (древняя, как сторожевая дербентская башня) уступает в троллейбусе место молодому джигиту, …насупленные деды в каракулевых папахах (и в сталинских френчах из краденных офицерских “отрезов”), словно дети малые, таскают на боку пустые пистолетные кобуры. …А то у ларька Союзпечать под бешеное хлопанье группа мужчин затеет вдруг совершенно дикий танец. Короче, Восток – страна “чудес и баранов”. При этом бараны не фигуральные, но самые настоящие – кучерявой стайкой пасущиеся на пустыре около нашего “военного городка”. А может и не бараны, может быть, – овцы, кто их разберет…
Кто их разберет… На Сахалине всех кавказцев под одну гребёнку называли “грузинами”. Здесь же, в Грозном, на вопрос “ты кто по нации” отвечать принято обстоятельно, и вариантов ответа, только в нашем четвертом “Б” – аж двенадцать. Вавилон да и только, невообразимый винегрет языков и этносов.
…Два от глаз заросших щетиной брюнета в характерных “аэродромах” терпеливо объясняются друг с дружкой на ломаном русском. Но это – двуглавая Чечено-Ингушетия, и здесь еще цветочки, а вот в соседнем Дагестане – что ни аул – то этнос со своим персональным языком. Религии? Их, конечно, поменьше, чем “наций”, к тому же на дворе 1973-й – какие, к Марксу, религии. И все же, мой охочий до местных колоритов родитель исподтишка расспрашивает госпитальных пациентов на щекотливый предмет вероисповедания. Горцев – хлебом не корми – дай о родине покалякать, о “красивых обычаях маленького, но гордого народа”. При этом такое можно услышать, что враз ощутишь себя уж если не Миклухо-Маклаем, то Сенкевичем – как пить дать. “Мы – акинцы, товарищ подполковник, летом Солнцу поклоняемся, а зимой – Луне. …”У нас, у ингушей, кровная месть до седьмого колена.” …”Приехал брат из аула в Новосибирск и зарезал её, чтобы род не позорила”.
Грозный – не аул – стольный град автономной республики, с, прости господи, – аэропортом и с вполне себе ничего – железнодорожным вокзалом.
Мы стоим на перроне в ожидании московского поезда. Не столько поезда, сколько наглухо законспирированного проводника, указанного в телеграмме вагона. Оно нам надо? Папа, как всегда, в форме (у советского военврача на приличную “гражданку” денег не то чтобы совсем, просто лишних не было), я в красном галстуке (не то чтобы пионер-герой, просто засовывать в штаны “частицу знамени” духу не хватало). Стоим на перроне, а на носу – на длинном семитском носу – весенний праздник “Песах”, на русский манер – “еврейская пасха”, или того круче – “жидовские кучки”.
С тех пор как нерадивому ученику екатеринославского хедера по уху врезал пьянчуга-меламед, и подоглохшего на один бок дедушку освободил прадедушка от изучения святых текстов, с религиозным рвением у нас в семье не заладилось. Тем не менее, ни профессиональным святошам, ни профессиональным безбожникам не удалось вытравить из генетической памяти “мацобол” в курином бульончике, “кнейделах” и слоёную “бабку”, не говоря уже о спрятанной от посторонних глаз в недрах гэдээровского серванта хрустящей стопке самого “опиума для народа”. Одна проблема – Пасха эта (в неудобном отличие от Первомая), что ни год – то в разное время. Что ни год, то пишут родители на “историческую родину” ветхому родственнику, деду Радзинскому, дабы тот, сверившись с крамольным своим еврейским календарем, сообщил точную дату намечающегося выхода из Египта. Наша “историческая родина” – улица Баумана, само собой, бывшая Банная.
Когда-то, при царе-антисемите, в городе было сорок синагог, раввинская семинария и пяток хедеров (в одном из которых и покалечили моего пращура). А в эпоху развитого социализма – лишь дед Радзинский со своим календарём и молельня размером с дровяной сарай. Зато в Москве имелась Хоральная Синагога, и в ней, с милостивого соизволения Государственного Комитета по делам религии, к празднику выпекалась “маца кошерная, освящённая раввином Фишманом”. В неприметных бандеролях из грубой обёрточной бумаги, московскими поездами, а уже затем …оленьими упряжками, …верблюжьими караванами, …аэросанями и ледоколами “лениными” добиралась она в “семьи лиц еврейской национальности”.
Светло-коричневый такой свёрток, покрупнее раза в три обувной коробки. Крест-накрест лохматая бечёвка, и на боку – бледно-фиолетовый штамп с таинственными письменами.
Это потом я узнал, что всесоюзный раввин Фишман (ныне здравствующий, и да продлятся годы его до прихода Мессии) – таки себе бывший биробиджанский инженер-электрик, по разнарядке КГБ прошедший курс в Будапештской семинарии.
Но тогда на грозненском перроне казалось мне, что из рук моисееподобного старца, распростёртых над всем СССРом, получили мы с папой Скрижали Завета. …И, сунув трояк вороватому проводнику, от греха подальше ж заныкивали в газету “Красная Звезда”.
Мы шагали домой объединенные страшной тайной. Советские марраны с секретным свёртком подмышкой, в офицерском кителе, в пионерском галстуке. И была наша тайна освящена самим раввином Фишманом. …И вдруг от самых глаз заросший брюнет в характерном “аэродроме” окликнул нас на ломаном русском: “Хаг самеах! В будущем году в Иерусалиме, товарищ подполковник”.
Я до сих пор не знаю, зачем он тогда потащил меня на вокзал. Что это было? Но, боюсь, что на хасидскую майсу “Об Отце, Разжигающем В Сыне Семисвечник Веры, И О Страшном, Но Добром, Горском Иудее, Разглядевшем Под Красной Звездой Хлеб Пустыни” история эта не тянет. Просто очень любил Иаков сына своего Иосифа… И, подозревая, что когда-нибудь закончится всё вечной разлукой, таскал за собою “мизиникера” в разноцветном плаще.