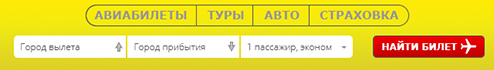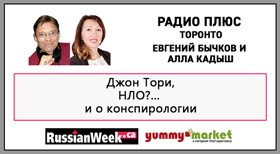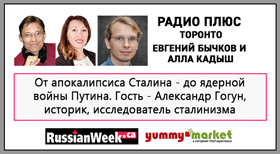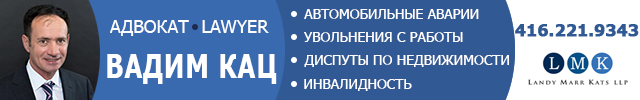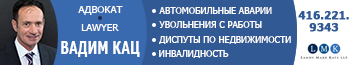Водородная бомба рухнула откуда-то сверху и, гремя стабилизаторами, покатилась прямиком Алику Журавлеву под ноги. О том, что гадина была не примитивно атомной, а именно водородной, красноречиво свидетельствовала жирно намалеванная латинская литера “Н”. И не то чтобы “липкий страх сковал душу” или там – “сердце пронзили ледяные когти ужаса”, но струхнуть Алик струхнул. Крайне осторожно перешагнув через натовскую дрянь, но тем не менее едва не опрокинув герб Туркменской ССР, Журавлёв нырнул в картoнный соломенный домик Нуф-Нуфа.
“Смеркалось, косые лучи заходящего солнца окрасили окна багровым…” В школьной подсобке окон не было, лишь две двери – одна, та, что с замком, – в коридор, другая, маняще незапираемая, – на сцену актового зала. “Не в силах остановить бешеное биение сердца, он ловил каждый звук”. Глупости, когда тебе пятнадцать, сердце тикает семьдесят ударов в минуту, наплевав с высоты образцовой нервной системы на всякие там критические ситуации. И все-таки, закрыв глаза на тот малолитературный факт, что жутко хотелось писать, можно было сказать, что Алик “весь он обратился в слух”. Вдоль коридора, от зарешеченного обезьянника раздевалки по направлению к учительской “прошаркали чьи-то шаги”. Именно “прошаркали”, как у завуча Сени, а не “процокали” как у директрисы Анны Шакаловны. И означало это, что “…надежда забрезжила”, “…удача улыбнулась”, и пару секунд назад так опасно пробуксовавшее “колесо фортуны” вновь покатилось в правильном направлении.
Завуч по хозяйственной части (и по совместительству преподаватель русской литературы) Семен Семенович Синицын был глух, как пень, и добр, как дедушка Мазай, в то время как чутье Шакаловны было сравнимо лишь с её же кровожадностью. Сеня скрипнул дверью в учительскую, и Алик вдохнул полной грудью.
“…Полумрак был пропитан запахом мышей и пыли”. А ещё пахнут пылью Невоплощенные Мечты, некогда яркие, но ввиду несвершенности потускневшие Поступки. А вот как пахнут мыши?
Жизнь Алика Журавлева сложилась так, что мышей нюхать не доводилось, и поэтому даже если бы и был полумрак “пропитан”, то опознать столь редкий аромат нашему герою в любом случае не удалось.
В домике нерадивого поросенка дышалось действительно не очень. Воняло сырыми опилками и клеем ПВА. Клей ПВА нюхали в детсадовской беседке революционно настроенные подростки, нанося его щедрым слоем на обрывки газет. На гребне конфликта отцов и детей подростки стремились стать токсикоманами, но неумолимый закон отрицания отрицания превращал вернувшихся из рядов Советской Армии экс-революционеров в обычных алкашей.
Алик изо всех сил не хотел в ряды, но для того чтобы в них не загреметь, необходимо было песком просочиться сквозь цепкие пальцы Анны Шакаловны в заветный девятый класс. Из девятого плавно перенестись в десятый и уж потом… в звёздно-кинематографический или, на худой конец, – в театрально-философский. С его-то, Алика, талантом – да в какой угодно, лишь бы не в “такой, в который все”.
Красть усилитель из школьной подсобки – дело рискованное, но не хитрое. Для этого требуется спрятаться после шестого урока в актовом зале, где имеется окно с заранее выкрученной решеткой и за “тяжелой бархатной кулисой” – укромная дверца в вожделенный чуланчик. Самый первый раз в жизни шагнул он из-за действительно тяжелой и взаправду бархатной кулисы на сцену. “Зал дремал в ожидании триумфа”. Желтые ряды фанерных кресел еще не заполнены попками поклонниц, но еще чуть-чуть, и разразится под этими сводами рок-опера, до которой Юноне с Авосем будет как до Луны. Эх, был бы только усилитель, без усилителя всей мечте цена – грош. “Зал дремал в ожидании триумфа”, а вдруг как наоборот: что, если “в предчувствии Голгофы”. Триумф придётся делить на четверых – “ионика”, ударные, ритм и бас-гитара. Что же касается Голгофы, то она станет его, Алика, персональным бенeфисом. Сначала “под сводами” разразится гражданская казнь с гостями из районного комитета ВЛКСМ, и уже потом на фоне “бархатной кулисы” грянет торжественное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних. Посадить, конечно, не посадят, у них там тоже борьба за показатели, просто турнут с волчьей характеристикой в самое дремучее ПТУ “перенимать опыт” у “седоусых мастеров”. Прощай, звёздный, прощай, театральный и вообще какой угодно, даже “такой, в который все”.
Стало страшно. Благоразумный холодок зашевелился пониже пупка, и противно взмокли ладошки. С картонного острия соломенной крыши нуф-нуфовского жилища вспорхнул Жаворонок. Пахло Невоплотившимися Мечтами, Яркими, но Несвершенными Поступками. В одной руке зажав Синицу, другой придерживая герб Туркменской ССР, Алик покинул сцену. В первый и, увы, – в последний раз.
По коридору, от зарешеченного обезьянника раздевалки мимо учительской прошаркал наш герой.
– Чего поздно так, а? – скучно поинтересовался показавшийся из-за дверей завуч по хозяйственной части.
– Да я это.., – честно ответил Алик.
– А.., – понимающе кивнул Семен Семенович. В далекой юности он баловался прозой, и самому Сомерсету Моэму тогда было до Сени Синицына как до Луны.
“Луна и грош”
Posted in Владимир ГАЛЬПЕРИН