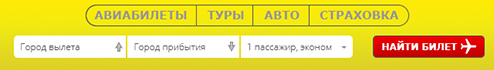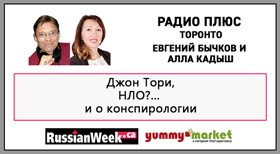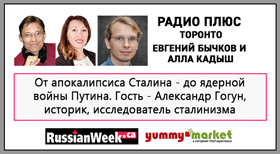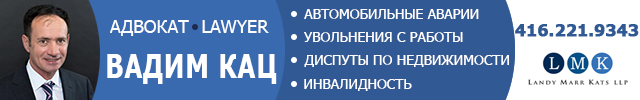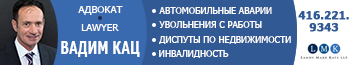Владимир Иванович Селезнев ехал домой с работы. В вагоне метро ему почти сразу удалось занять освободившееся место, и вскоре он задремал.
Владимир Иванович Селезнев ехал домой с работы. В вагоне метро ему почти сразу удалось занять освободившееся место, и вскоре он задремал.
Люди входили и выходили, а он, ссутулившись, спал. В какой-то момент он вдруг проснулся. Вагон с открытыми дверями стоял на остановке. Что за станция, было непонятно. Он рванулся к выходу, чтобы выглянуть на перрон и посмотреть, но в этот момент двери закрылись и прищемили ему голову.
Он, пытаясь вырваться, судорожно дернулся, поезд начал было движение, но почти сразу остановился, двери открылись, и Владимир Иванович, шатаясь, вернулся к своему месту.
Через минуту он пришел в себя и сообразил, что на следующей остановке ему нужно выходить. Голова болела, но сон как рукой сняло.
Он вышел из метро и сел на автобус, который шел к его дому. На улице было тепло и солнечно.
“Хорошо еще очки не потерял…, – подумал он. – И очень хорошо, что двери окантованы толстой резиной. Но получил основательно. От такого удара и дураком стать недолго. Надо было хоть ногу подставить”.
Он жил один.
Вошел, поставил сумку у двери, снял пиджак, развязал галстук и посмотрел в зеркало. Явных следов удара не было.
“Завтра выходной, – подумал он, – послезавтра и после-послезавтра. Три дня. Отдохну, наконец, отосплюсь”.
Он прошел на кухню, достал из холодильника бутылку пива, улыбнулся и сел к столу, лицом к окну.
О край стола открыл крышку и, прикрыв глаза, медленно стал пить. Он весь день ждал этого момента, сладко причмокивал и незаметно улыбался.
На кухню пришла кошка Дуся, внимательно посмотрела на него, потом на пустую миску на полу у окна и опять на него.
Он, наблюдая за ней краем глаза, сделал вид, что намек не понял. Отвлекаться и двигаться не хотелось, чтобы не разрушить долгожданный миг блаженства.
“Ушел и даже воды мне не оставил. Сам пьет, жрет, ни в чем себе не отказывает, а мне все в последнюю очередь, – вдруг отчетливо услышал Владимир Иванович. – Лоток грязный, вонючий. Если бы у нас были мыши, я бы не то что ловить их не стала, еще бы посоветовала пригласить к нам всех их родственников. Завел кошку, скотина, и издевается”.
Владимир Иванович искоса взглянул на кошку. Дуся сидела у стола, подчеркнуто равнодушно глядя в сторону. Он допил пиво, вздохнул, потер лоб. “Глюки начались, – подумал он. – Переработал с этим квартальным отчетом. Платят, вроде, нормально, а денег вечно нет. Расплачусь с долгами и выкину к черту эти карточки.”
“Два дня не поливал, скотина. Это в такую-то жару! – вдруг услышал он. – Холодный, равнодушный, эгоистичный человек. Вчера курил на кухне и оставил свой окурок в моем горшке. Гадина. И его бывшая такая же тварь – шмотки свои взяла, а нас оставила с ним”.
Владимир Иванович взглянул на окно, где на подоконнике в горшках стояли герань и кактус, и вдруг понял, что стал слышать мысли животных и растений. Очевидно, это были последствия удара по голове в метро – что-то переключилось в мозгах, и он стал обладателем редчайшего дара.
Он встал, налил в кружку воды из-под крана и хотел полить растения, но замер, услышав вопль: “Опять с хлоркой! Он нас убьет! Подлец, садист”. Дрожащими руками он поставил кружку на стол и налил кошке в плошку воды из чайника. Достал с полки кошачьи консервы, открыл и поставил на пол.
“Чтоб ты жрал всю жизнь эти консервы, болван, – услышал Владимир Иванович. – Хоть бы раз купил курицу, сварил суп. Дождешься от него, как же… Рыжей Ирме, которая живет выше этажом, хозяева каждый день дают то рыбку, то тефтели, а этот лузер кормит меня всякой дрянью и еще ждет, чтобы ему мурчали. Мерзость какая”.
Владимир Иванович, пятясь, вышел с кухни и прошел в гостиную. В голове не укладывалось то, что он услышал. Было очень обидно, но в то же время он понимал – все сказанное было правдой.
Он взял сигареты и вышел на балкон.
Увидел белок на дереве, росшем неподалеку. Белки бегали вверх и вниз по стволу, пробегали между деревьями и что-то искали в траве.
Владимир Иванович постарался сосредоточиться и услышать их мысли. Мысли белок были отрывистые, сумбурные, хаотичные:
“Возле ствола, в траве, лежит хлебная корка, отсюда я ее хорошо вижу. Это моя корка. И шишка моя”. “Я первая нашла это яблоко, никому не дам, даже не думайте”. “Эй, рыжая, это не тебе бросили орех, а мне”. “Ты еще маленький, тебя может поймать собака и разорвать, иди быстрей к маме”. “В мое дупло я не пущу никого”. “А меня?!”. “Тебя… тебя я пущу. Какой у тебя красивый хвост – длинный и пушистый!”. “А дупло у тебя большое?” “Нам с тобой тесно не будет. Есть орехи!”. “Какие у тебя усы! Дай погрызть семечку!” “Смотрите, кошка подбирается!” “Осторожно, кошка!” “Это опять тот серый кот, который недавно убил воробья. Идет и делает вид, что его ничего не интересует. А глаза убийцы”. “Бельчонок, а ну быстро домой!”
“Как же мне все это осто…ло, – донесся до Владимира Ивановича хриплый голос. – Ради куска хлеба вся эта бесконечная суета… Зачем?! И соскочить нельзя, да и некуда… Но так тоже вечно продолжаться не может. Это тупик. Какие варианты? Всем все пох и никто никому не нужен”.
Владимир Иванович вдруг почувствовал, как у него перехватило дыхание, и он с трудом выдохнул: это было именно то, что он давно чувствовал и не мог сформулировать. Или боялся себе это сказать.
“Но чтобы белка, обычная канадская белка такое сказала… Ладно мы, эмигранты, нам и там плохо было, и здесь несладко. Но она-то здесь родилась, это же все ее родное, а как созвучны оказались наши ощущения…”
Когда эти мысли с быстротой молниии пронеслись в его голове, сверху на его балкон упал окурок, потом кто-то плюнул и ушел, с шумом задвинув балконную дверь.