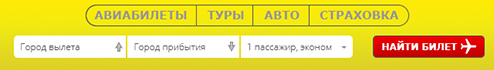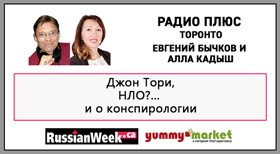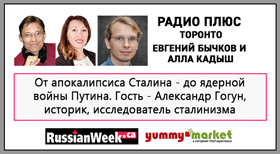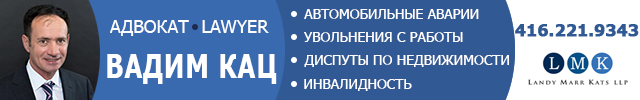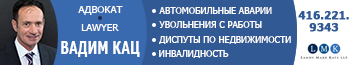Мы не виделись с тобою двадцать два года. Как же так вышло, что почти четверть столетия не вспоминал я о тебе. И вот надо же такому случиться – на противоположной стороне планеты, нос к носу… М-да, поработало время над нами. Я нынче толстый, лысый и важный, ты же – наоборот – меньше стал. Ссохся, должно быть, с годами.
Глядя на тебя сегодняшнего, странно вспоминать, как раболепствовал я перед тобою в прежние времена. Чего уж теперь греха таить – радостно билось мое бедное сердце, когда высокомерно одаривал ты меня своим посещением. В те крайне редкие деньки, когда удавалось показаться на людях в компании с тобою, я делался таким же вальяжным, значимым и самоуверенным, как и ты. Еще бы, ведь ты – Четвертак! Роскошная советская банкнота в окружении сановной свиты пятерок, трешек и рубликов. Это для кого-то ты был сиреневым, а для меня, несчастного голодранца, – волшебным аметистовым сиянием исполненным.
И вот, надо же такому случиться – через целую прорву лет, в убогой лавке ненужных вещей, нос к носу…
Прости меня, Четвертак, прости, что не думал я о тебе все эти годы, не вспоминал. А ведь был ты валютой, свободно конвертируемой в трех цыплят табака (с чесночком!) и в девять стаканов (бутылками не отпускали) сухого белого. И при этом целый рубль ещё оставался, чтобы у неприступного швейцара дяди Жоры приобрести пачку болгарских “Б.Т.” Ну да, к черту цыплят и дядю Жору… Лучше, все заранее взвесив, пригласить девушку в кафе “Огни цирка” и там под “Танец на барабане” аж два коктейля “по три пятьдесят” через пластмассовую трубочку высосать. А потом (у богатых свои причуды) кофе заказать по рублю за штуку. Только и это еще не все, самое главное произойдет немного позже – когда на полированную поверхность шаткого столика небрежно (но так, чтобы изо всех углов зала видно было) упадет пачка кишиневского “Мальборо”, у того же самого Жоры приобретенная, но только не за рубль, как “Б.Т.”, а за целых пять.
Итого останется после гуляния на всё про всё четыре рубля. Но боже мой, кто же считает копейки, когда напротив вас затуманенные коктейлем “по три пятьдесят” карие глаза с синими “стрелками”, стрижка “каре” и льётся из фальшивых колонок “Пионер” чарующая музыка. Божественная музыка – смесь нечёрного моря, неплатонической любви и нешуточного достатка, незабвенная “Феличита”, что по-тамошнему значит “счастье”.
Счастье, это когда не считают копейки. Это когда нежные пальчики той, что напротив, лениво роняют окурок (почти половину сигареты!) кишиневского “Мальборо” в недопитый (!) кофе. Пальчики роняют, а вы про себя с замиранием внутренних органов думаете: “Господи, неужели сегодня….” Кто же в такие мгновения считает копейки? Тем более, что они заранее подсчитаны.
Не копеечным заморышем, но солидным джентльменом с четырьмя оставшимися рублями в кармане “микровельветовых бананов” так приятно гулять по аллеям весеннего парка. Прощаться в гулком подъезде часа полтора (обидно, конечно, что не сегодня…), а на следующей неделе все то же самое, но только в два раза меньше, на оставшийся от (непонятно за что начисленной) стипендии червонец.
В баре с озорным названием “Колобок” червонца хватит на четыре рюмки разведенного коньяком кальвадоса и на две чашечки лжебразильского кофе. Ну а что касается “гастрольных” сигарет, то с прошлой недели полпачки осталось….
Прости, Четвертак, что не вспоминал я об этом все эти годы. Прости, дружище, если сможешь. Когда-то я был молод и беден, и ты казался всемогущим, но время летело, меняя нас обоих. Не сразу, но постепенно, стал я на равных общаться с полтинниками, и даже сотни, пусть и не часто, гостили в моём кошельке. Только те времена уже мерялись не тобою, а внешпосылторговскими чеками “один к двум”. В зеленых долларовых лучах, лупивших сквозь дыры прохудившегося железного занавеса, ты ёжился лоскутком шагреневой кожи. Эх, Четвертак, Четвертак, исчезнуть бы тебе в зените славы, раствориться б летучим голландцем, уйти Львом Толстым, дабы не видели твоей немощи те, для кого был ты кумиром. Но ты суетился, мельтешил, мельчал…
Наверное, я не вправе осуждать тебя, но и ты пойми мою обиду, когда в кооперативной палатке на “Лагерном базаре” небритые люди с бегающими глазами предложили в обмен на тебя два люля-кебаб и стакан томатного сока. Прости, Четвертак, я был голоден и согласился. Но что-то случилось в тот день, лопнула в душе какая-то штучка, и я понял: юность ушла безвозвратно. А помнишь, дружище, как прощались мы в “Шереметьево”? Я отдал тебя в хорошие руки, и эти руки взяли тебя исключительно из жалости, как берут в дом больную дворнягу.
С тех пор, как это бывает в индийском кино, “прошли годы, и вот…”. В лавке случайных вещей мы столкнулись нос к носу. Сделав вид, что меня не узнал, он отвернулся в сторону сиреневым профилем. Среди выцветших комиксов и дурацких зажигалок сидит он, нахохлившись Лениным, такой милый и до боли родной.
Брось дуться, старик, полезай в карман. Я выкуплю тебя бездушной пластиковой визой за обычные для этих мест девять девяносто девять. Пойдем ко мне домой, Четвертак, а? Поверишь ли, там у меня та, что с карими глазами. Ну как же так, неужели не помнишь? Синие стрелки, кишиневское “Мальборо”, гулкий подъезд? Ты будешь смеяться, но в один из наших с тобой вечеров она меня таки да впустила в квартиру.
Нет, ты был не при чем. Хотя, черт тебя знает…
Встреча
Posted in Владимир ГАЛЬПЕРИН