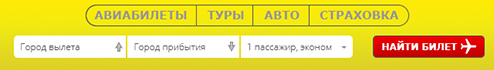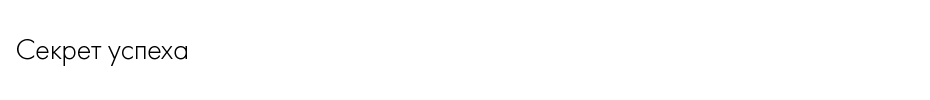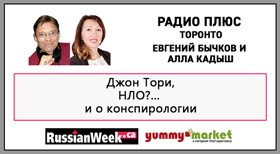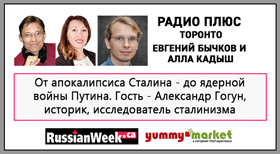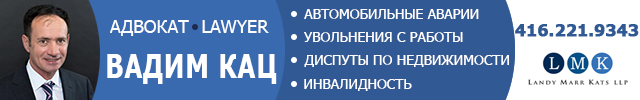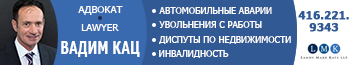«Как славно ввечеру, вдали Всея Руси, Барышникова зреть. Талант его не стерся!
«Как славно ввечеру, вдали Всея Руси, Барышникова зреть. Талант его не стерся!
Усилие ноги и судорога торса с вращением вкруг собственной оси рождают тот полет, которого душа как в девках заждалась, готовая озлиться!
А что насчет того, где выйдет приземлиться, – земля везде тверда; рекомендую США»
Это строки из стихотворения, которое Иосиф Бродский посвятил Михаилу Барышникову в 1976 году, так его и назвав — «Михаилу Барышникову». За время, прошедшее с того момента, как Бродский поставил в нем финальную точку, и до дня, когда Барышников выйдет на сцену в спектакле, с чемоданом в руках, перевернулось многое, но вот одно точно осталось неизменным — его ничуть не стершийся талант.
– Михаил, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Алвисом Херманисом (ред. – режиссер спектакля) и как ему удалось убедить вас принять участие в спектакле?
– Несколько лет назад я познакомился с творчеством Алвиса и только потом – с ним лично. Помню, как смотрел его спектакль по рассказам Шукшина (в записи). Это была очень хорошая работа, шедшая в Театре наций у Евгения Миронова. Потом я видел оперные постановки Херманиса в Европе… Когда же в Италии произошла личная встреча, мы, помню, долго разговаривали: про Латвию и про все на свете. Он задавал множество вопросов, в том числе, про Иосифа. Алвис вырос на поэзии Бродского и стал большим его поклонником. Конечно, он знал, что мы с Иосифом были близкими друзьями. Его чрезвычайно волновали те или иные черты характера поэта, какие-то истории и ситуации, с ним связанные. Обаяние Херманиса-художника оказалось столь велико, что я без колебаний рассказывал ему, что помнил и что мог. Какое-то время спустя он позвонил и предложил сделать спектакль по стихам Иосифа. Мы встретились, и после долгого разговора я решился.
– Почему “решился”, а не “согласился”?
– Это очень личная, интимная история. Не потому, что так мне захотелось, а потому что всякий раз, когда возникают намерения делать вещи, с Бродским связанные, я как бы спрашиваю себя: “А что бы сказал об этом Иосиф?” – художник в вопросах искусства абсолютно бескомпромиссный… Так было и на этот раз.
– Что это за спектакль, что нас ожидает?
– Наш спектакль — совсем не традиционное по жанру «чтение с эстрады» или «встреча со зрителем», когда артист выходит и вспоминает стихи из своего репертуара. Это не театр авангарда, не психологические «штудии» и, тем более, не танцевальный вечер. Речь совершенно о другом. «Бродский/Барышников» – это встреча с поэтом, с другом. Алвис очень хотел, чтобы публика оказалась свидетелем своего рода «спиритического сеанса».
Собственно, любое чтение стихов – дело глубоко личное, это всегда частный, практически «спиритический» разговор с тенью ушедшего поэта. Закончив земное существование в виде бренной человеческой плоти, поэт становится речью, «словом» – высшей формой существования разума. Чем значительнее масштаб художника, тем большим количеством тем, идей и ассоциаций обладают диалоги post mortem. Режиссер так построил спектакль, что на сцене возникает вот этот самый диалог – разговор двоих.
– Человек на сцене — это Михаил Барышников или образ Михаила?
– Это, естественно, актер. Но, в то же время, он – некая условная персона по фамилии Барышников со своей биографией и психологией. Плюс, конечно, это лирический герой стихотворений. Герой, состоящий из множественного моего «я», оказывается в каком-то пространстве, в котором, возможно, когда-то уже бывал. И сейчас случайно снова туда заглянул. Нет никаких выверенных отсылок к конкретному историческому контексту, хотя заметно, что чемоданчик у моего героя изрядно потертый, да и будильник бросается в глаза – странный, старый. Есть материальные вещи-намеки, но они все как бы не впрямую. Поэт ведь гражданин вечности, среда его обитания — само время! И весь спектакль – не рассказ о моей дружбе с Бродским. Читая его стихи, я ощущаю живое присутствие поэта как удивительную реальность не только своего внутреннего мира, но и мира внешнего. И вместе со мной это отчетливо понимает мой зритель.
Декорацию к спектаклю придумала прекрасная художница театра Херманиса – Кристине Юрьяне. Это оранжерея времен прекрасной эпохи – может быть, это XIX век. Такую вполне можно было обнаружить и в Летнем саду, и где-нибудь на Рижском взморье. С одной стороны, она чем-то немного напоминает старый петербургский лифт, с другой – это такая стеклянная веранда или беседка, в которых духовые оркестры когда-то играли в городском саду. Иосифу декорация бы понравилась – это я знаю точно. На мой взгляд, она прекрасно передает ностальгическую интонацию поэтической речи, ее бесконечное возвращение в прошлое. И все же это живой взгляд поэта на сегодняшнее время и разговор с другом в будущем.
– От Барышникова все ждут танца, а он читает стихи…
– Некоторые стихи записаны на фонограмму, часть я читаю с листа, часть наизусть, есть пара моментов, где в записи звучит голос Бродского. При этом в спектакле, естественно, присутствует движение. Мы использовали элементы фламенко, японского танца буто и театра кабуки или просто движения тела как реакции на какие-то мелодические каденции спектакля. Но это ни в коем случае не танец, скорее, некая инстинктивная импровизация на тему. Алвис выбрал несколько стихотворений, которые дают возможность для такой импровизации. Например, в ритме фламенко: «В тот вечер возле нашего огня / увидели мы черного коня».
– Кто и как отбирал стихи?
– Режиссер. Отбирая тексты, он решительно отметал то, что, может быть, не очень понятно: в смысловой ткани спектакля не должно оказаться лакун и разрывов. Образ ведь распадается, если нет возможности воспринимать его как целое. И сам Бродский называл стихи «безнадежно семантическим видом искусства»… У Херманиса этот режиссерский принцип утверждается во всех постановках: если даже один человек в зале не понимает, о чем речь на сцене – надо убрать. Он оставил очень простые стихи Иосифа. Те, в которых нет аллюзий к речи любимых поэтов, нет отсылок к грекам, античному Риму, мифологии.
Я абсолютно доверился его интуиции, у него богатый опыт театральной режиссуры и он действительно очень хорошо знает поэзию Иосифа, хорошо чувствует русский язык, проникновенно и трогательно относится к русской литературе и культуре.
– Какие-то произведения вы знали наизусть до работы с Алвисом? Вы ведь 22 года дружили с Иосифом Бродским…
– Некоторые стихотворения я, конечно, знал наизусть, потому как «открыл» Иосифа в свои 16. Хотя лет до 26 я все читал отрывками, публикаций на родине не было. Тексты ходили в списках, которые мы передавали друг дружке и читали, что называется, под столом. Когда я уехал в США и познакомился с Иосифом, его книги стали для меня настоящим дорожным путеводителем. Память то и дело выбрасывает на поверхность сознания четверостишья или двустишья, а то и целые строфы. Например: «Птица уже не влетает в форточку. / Девица, как зверь, защищает кофточку. / Поскользнувшись о вишневую косточку, / я не падаю…»
– Как вы учили стихи? Вы полтора часа читаете Бродского на сцене, это большой объем.
– В спектакле основное сценическое действо ведет мой живой голос, иногда – мой голос в записи. Я – то читаю с листа, то наизусть. Но когда я заучивал текст, то заучивал весь спектакль, что заняло примерно полгода. Это привычка, конечно. И то, что отличает литературные курсы русско-советской школы от западного образования. Нас, помню, заставляли учить многие главы из Лермонтова, лирику Тютчева или того же “Александр-Сергеича”, как выражался Иосиф… И мы сдавали устные экзамены. Надо сказать, что декламационных способностей у меня никогда не было. Я вообще трудно запоминаю стихи. Но то, что запомнил, остается надолго. Знаю многие стихи Пастернака, Ахматовой, Мандельштама. Не столько потому, что так было надо, а потому что их строки совпадали с какими-то ритмами сердечными, откликались, жили, резонировали…
– Выучить стихи — большое дело, но какую задачу вам ставил режиссер как актеру?
– Алвис сказал: «У тебя есть каденция, эта октава, внутри которой ты можешь варьировать тембр голоса и педаль звука, где-то читать шепотом, где-то голос повышать, где-то читать абсолютно ровно…». Мне хотелось найти свой тон, который бы отличался от тона, которым читал Бродский — нараспев, как литургию, или как раввин… Иосиф читал волшебно. Я часто слушал, как он буквально пел свои стихи. Иногда мне доводилось быть первым их слушателем. И совершенно метафизическая фонетика его голоса всплывает то и дело, когда я начинаю читать сам: “Век скоро кончится, но раньше кончусь я. / Это, боюсь, не вопрос чутья. / Скорее — влияние небытия / на бытие…».
Но мне требовалось найти собственную тональность. Смыслы его строк, их подтекст и затекстовая его дикция позволяли создать в одном высказывании структуру нашего диалога. Он говорил этими строчками лично со мной, со всем миром – через меня. А я с их же помощью заговорил с ним самим…
– Ваша публика не всегда на сто процентов русскоговорящая?
– Две трети публики почти всегда русскоязычные. Хотя у нас есть замечательный перевод. Сделала его очень талантливая студентка Иосифа Джейми Гэмбрелл. Они много работали вместе, и он хорошо знал ее труды. Она живет в Техасе, но много времени провела в России и абсолютно двуязычна. Она очень трогательно и точно все передала, хотя перевод не поэтический. Алвис и не хотел рифмованного перевода. Во-первых, потому что для большинства англичан рифма привносит в поэтический текст элемент архаики (большая часть современной англоязычной поэзии – нерифмованная). Во-вторых, режиссер очень хотел, чтобы тем, кто не говорит по-русски, было абсолютно ясно, про что вся эта история.
Перевод как бы вписан в оформление спектакля. Изобразительно это выглядит очень красиво: титры плывут яркой прерывистой нитью по верху декорации, строчка за строчкой. Я намеренно говорю довольно медленно, чтобы зритель успевал читать перевод.
– Что вы чувствуете, когда на сцене разговариваете с давно ушедшим другом?
– Спектакль начинается со стихотворения: “…Мой голос, торопливый и неясный, тебя встревожит горечью напрасной…”. Для меня суть постановки – именно в этих строчках. Камертон стихотворения, по которому настраивается струна всего спектакля, превращает ее в живой нерв. Я вспоминаю Иосифа, читающего эти стихи. В какой-то момент включается старый магнитофон с бобинами и звучит его голос. Очень острый момент. Странным образом проявляется состояние предельной тоски – от живого разговора с ушедшим и от невозможности при этом его обнять. И тут же неожиданно возникает Нью-Йорк, хотя декорация вроде бы совершенно этого не передает. Как все это возникает – я не знаю.