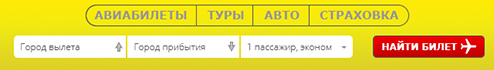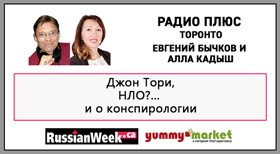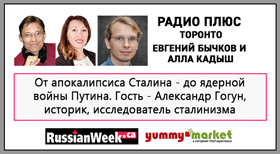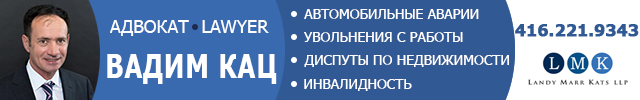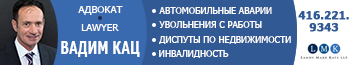Когда-то я работала в лаборатории микроциркуляции в Ереванском филиале ВНЦХ (Всесоюзного научного центра хирургии). Наша лаборатория располагалась в двух больших комнатах на чердаке. Чердак этого громадного здания представлял собой широкий, бесконечно длинный коридор, по обеим сторонам которого имелось множество дверей, ведущих в подсобные помещения. По потолку и стенам тянулись разные провода и трубы.
На чердаке, кроме нашей лаборатории, находились: столовая с кухней, где готовилась еда для больных и сотрудников института, фотолаборатория, где работал молодой фотограф, он делал слайды для конференций и снимал на видеокамеру хирургические операции. На чердаке также жили бедный художник и бездомный стеклодув. Директор института, по специальности кардиохирург, был меценат. В его кабинете, кроме портрета Ленина, висели: копия картины Айвазовского “Девятый вал”, натюрморт, написанный бедным художником, и четыре пейзажа, нарисованные талантливыми пациентами городской психиатрической клиники, главврач которой был другом нашего директора. У него самого кабинет был увешан картинами психов, и излишек он дарил друзьям.
Художника, жившего на чердаке, директор приютил из сострадания и любви к искусству. Ему было двадцать с небольшим, он кололся, отец выгнал его из дома, мать и сестра его иногда навещали. Он периодически отключался от мира, добыв у кого-нибудь из врачей или медсестер морфин и введя его себе в ногу. Он лежал на куцем диване в своей мастерской, слушая какую-то необыкновенную музыку – старинную индийскую в современной аранжировке и записи разных мантр на санскрите. До нас через коридор долетали изумительные звуки. Художник, однако, выйдя из транса, занимался делами. Он оформлял стенгазеты, расписывал транспаранты для праздников, рисовал плакаты для поликлиники, которая находилась на первом этаже. Он их копировал с печатавшихся когда-то в Союзе, сохраняя их содержание, но меняя рисунок, выполненный в духе соцреализма. Вместо этого он рисовал абстрактные кубики или вангоговскую звездную ночь. В кабинете дерматолога висел плакат: “Венерические заболевания очень осложняют жизнь”, в женской консультации: “Закаливай соски ежедневным обмыванием холодной водой”, в коридоре: “Строго храни государственную тайну!” Последний плакат являл несомненно важный призыв, но выпадал из общей тематики, поэтому его вскоре убрали.
За свою работу художник получал жалование. Он был довольно талантлив, картины его покупали сотрудники института. Он рисовал в основном голых женщин, ему втайне позировали медсестры, лицо он менял до неузнаваемости, фигуру тоже. Он мог, однако, изобразить все что угодно: портреты, пейзажи, натюрморты, Ленина. Но Ленин у него выходил на любителя, с длинной шеей, т.к. он рисовал в стиле Модильяни. Директор, посетив как-то мастерскую вместе с парторгом и увидев портрет, спросил: “А нас не посадят за это?”
Стеклодува, жившего недалеко от художника, через несколько комнат, тоже приютил директор. Это был высокий, худой мужчина, он развелся с женой, оставив ей свою однокомнатную квартиру, и ему было негде жить. Он тоже был очень талантлив, он выдувал пробирки и колбы для институтских лабораторий, но мог выдуть все что угодно: цветы, фрукты, елочные игрушки, Ленина.
Еще на чердаке была мастерская плотника. Плотник был пожилой, коренастый и немногословный мужчина, значение которого сильно возрастало в период праздников, так как он выпиливал буквы, из которых складывались лозунги, как всегда лаконичные, которые устанавливались на главном фасаде или крыше здания. В первое время пытались протолкнуть более пространные. Директор предлагал: “Вперед к победе коммунизма”, парторг: “Партия – наш рулевой”, председатель профсоюза: “Профсоюзы – школа коммунизма”. Но плотник отметал все варианты и выпиливал короткое: “Миру – мир”, или “Слава КПСС!”.
Наша лаборатория была экспериментальной, недавно созданной, еще не получившей официального статуса, поэтому ее поместили на чердаке. Окна комнат смотрели на юг. Из окон открывался великолепный вид на Арарат. Нас было пятеро, все были моложе тридцати, только шефу было тридцать три. У нас был физик, которого взяли в лабораторию по чьей-то протекции, учитывая его знания в физической оптике. Он любил Сальвадора Дали, которого не очень-то жаловали в нашей стране, а по правде сказать, он вообще был тогда под запретом, поэтому его картины были мало кому знакомы. Физик приносил на работу слайды – фото его картин и показывал нам, объясняя их сюрреалистический смысл. Не находя в нас особого понимания, он шел к художнику, который целиком разделял его восторг.
Другой сотрудник лаборатории, биолог, увлекался вегетарианством, сыроедением, голоданием, верил в бога и был экстрасенсом. Он видел ауры над головами людей, а после сорокадневной голодовки, по его словам, мог видеть сквозь стены. К нему в лабораторию приходили друзья, такие же экстрасенсы с выраженными теми или иными способностями. Один товарищ периодически улетал на Луну (наш экстрасенс ни минуты в этом не сомневался, в отличие от нас), ночью он улетал и под утро возвращался. Не всегда у него получалось, все зависело от душевного настроя, магнитных бурь и расположения звезд, но в среднем 2-3 раза в месяц ему это удавалось. Легче всего было лететь, как он утверждал, после сорокадневной голодовки. Во всем остальном он был нормальным человеком, приятным в общении. Другой товарищ, тоже приятный и общительный, мог разговаривать животом. Мы сначала думали, что он прячет в брюках радио, но потом убедились, что он нутром своим произносит слова, довольно сложные и довольно внятно.
Наш шеф, врач по образованию, был далек от сюрреализма, мистицизма, четвертого измерения и подобных туманных явлений и периодически, особенно, будучи не в духе, выражал свое недовольство, говоря, что ему надоели лунатики, чревовещатели, шпагоглотатели, “мягкие часы” и прочая мура, и чтобы духу их в лаборатории больше не было. Однако через какое-то время все это вновь появлялось, и он смирялся, махнув рукой.
Четвертой в лаборатории была я, пятой была санитарка – молодая здоровая женщина с румяными щеками.
(Продолжение следует)